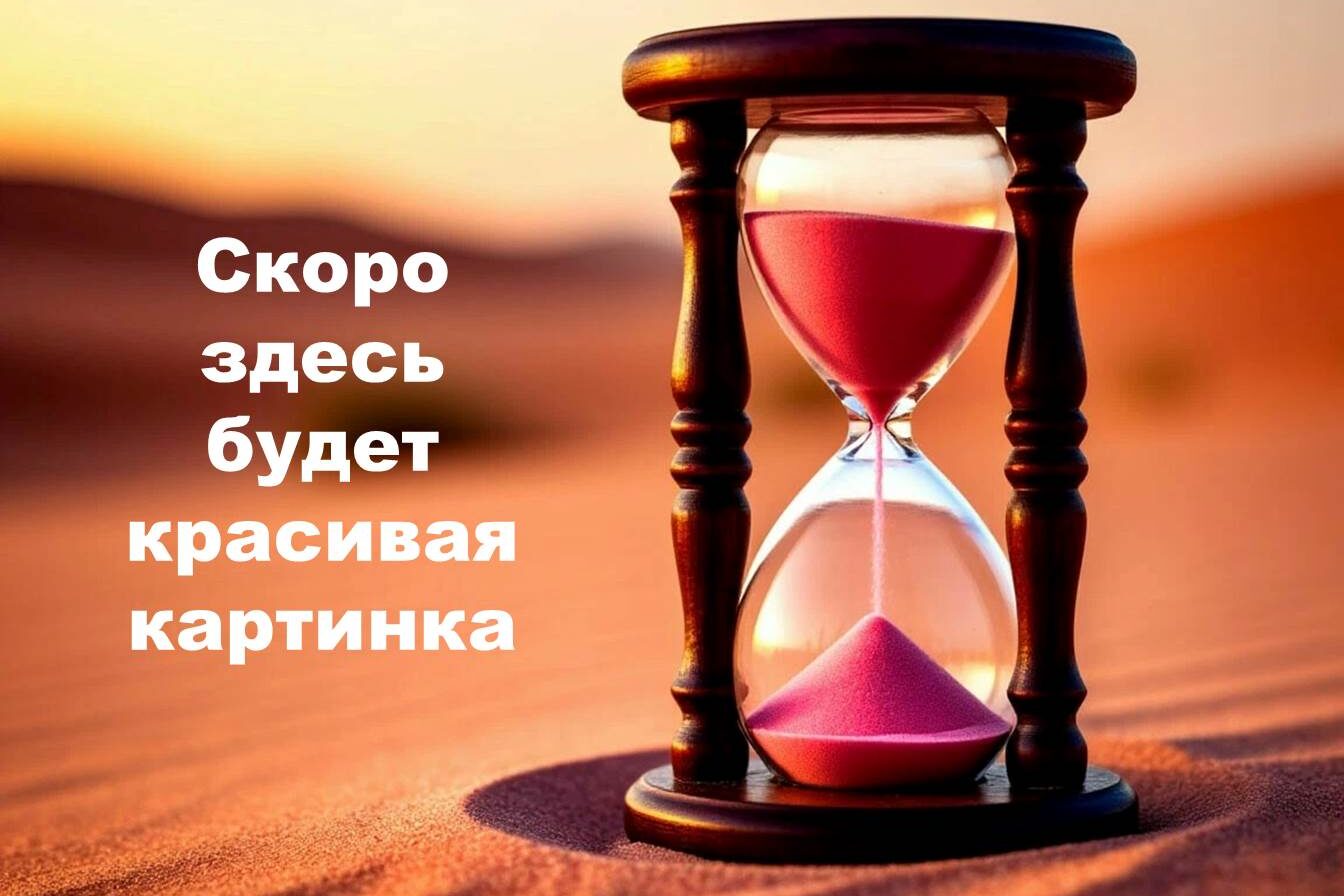Автор: Д.Б. Матвеев, к.т.н., магистр богословия, преподаватель Колледжа Наследие

С тех пор, как человеческий разум ощутил свое свойство быть автономным от традиций и обычаев — т.е., как минимум с эпохи Просвещения — он занят выяснением своих взаимоотношений с религиозной сферой. Так возникла тема веры и разума, далеко не исчерпанная и до сих пор. Как одно из ее проявлений, во второй половине ХХ столетия среди верующей интеллигенции Москвы был популярен такой афоризм: входя в церковь, нужно снимать шляпу, но не голову. Так люди, для которых с обретением веры важно было не утратить способность мыслить, стремились подчеркнуть несостоятельность мифа о несовместимости веры и разума.
Заметим, однако, что это не столько снимает проблему, сколько подчеркивает ее. Уже сама постановка вопроса о «снятии головы» при входе в церковь говорит о том, что некая имманентная угроза «голове», существующая в церкви, людьми интеллектуального склада продолжает ощущаться. Умонастроения, подтверждающие это, вполне наблюдаемы. И по сей день довольно легко заметить, что критически и независимо мыслящий человек скорее ассоциируется с понятием «неверующий, нежели «верующий». Не так редко можно столкнуться с тем, что человек острого, критического ума не представляет себя в церкви именно благодаря тому достаточно стойкому убеждению, что такой склад ума с верой не совместим. В самом деле: кто опровергнет тот тезис, что от верующего в определенных вещах требуется не сомневаться, а принимать их «на веру»? Разве не в этом вера и состоит?
Достаточно распространена и другая ситуация, связанная с той же проблемой: человек, уже достаточное время пребывающий в церкви, но склонный к размышлениям, «доразмышлялся» до того, что усомнился в каких-то из вещей, в которых сомневаться не принято. Чаще всего этой стадии исканий соответствует если не отчаяние, то, по крайней мере, серьезное беспокойство: «я теряю веру» или даже «я потерял веру!». Это кажется вполне закономерным: ведь разве вера — это не принятие чего-либо без сомнения?
«Сомнение» в качестве антонима «веры» назовут, пожалуй, очень многие. Соответственно, церковь в наиболее распространенном, как вне, так и внутри, понимании — это сообщество людей, которые не сомневаются в определенном наборе постулатов. И, напротив, критический, рефлексирующий разум в церкви ощущает некий комплекс неполноценности. Таково устойчивое, доминирующее среди людей представление о том, что такое вера. Его даже нет возможности определить как обыденное или расхожее: в него укладываются и вполне философские трактовки. Если поискать в Интернете (как говорят на интернет-жаргоне, «погуглить») слово «вера», то вот какие примеры словарного определения понятия мы получим:
- Вера — уверенность, убеждение, твёрдое сознание, понятие о чём-либо, особенно о предметах высших, невещественных, духовных (В. Даль).
- Вера — состояние субъекта, тесно связанное с духовным миром личности, возникающее на основе определённой информации об объекте, выраженной в идеях или образах, сопровождающееся эмоцией уверенности и рядом других чувств и служащее мотивом, стимулом, установкой и ориентиром человеческой деятельности. Философский словарь.http://mirslovarei.com content fil VERA-20423.html
- Вера — не основанная на знании убежденность в истинности того или иного явления. Философский словарь. http://filosof.historic.ru/enc/item/f00/s01/a000168.shtml
- Вера — это такое отношение к умозрению, при котором его действия признаются как истинные и достоверные без доказательств. http://www.servicism.lg.ua/b_rot_st23h.htm
5.»Вера — признание чего-либо истинным (убеждение), в том числе признание чего- либо истинным без предварительной фактической и логической проверки, единственно в силу внутреннего, субъективного непреложного убеждения (чистая вера), которое не нуждается для своего обоснования в доказательствах, хотя иногда и подыскивает их.» (Википедия).
Вот как описывает гносеологический аспект веры Новейший философский словарь: «принятие в качестве истинного тезиса, не доказанного с достоверностью или принципиально недоказуемого». Там же: «пантеистические религии (см. Пантеизм) ориентируют верующих на совершенствование faith-B., а теистические (см. Теизм) — предписывают придерживаться belief-B., т.е. доверия к Символу веры и сакральным текстам.» http://slovari.yandex.ru/~книги/Философскийсловарь/Вера/
Таким образом, вера чаще всего понимается как некий род знания с низкой степенью доказательности[1].
Если говорить о христианах, то решающим для них в вопросе связи веры и уверенности является подкрепление этой связи со стороны Нового Завета «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр 11.1). Таким образом, и в тексте Нового Завета, по крайней мере, в одном его месте, вера опять же связывается с уверенностью и тем самым фактически противополагается сомнению.
Хорошо все это или плохо? Универсальный, приемлемый абсолютно для всех ответ здесь, наверное, невозможен. Однако здесь всегда следует иметь в виду, что в восприятии современного человека, ценящего свободу и поиск разума, ограничения в этой области, существующие в религиозных традициях, нередко создают барьер между людьми и традициями. Здесь необходимо указать и на другое следствие, способное вызвать беспокойство христиан: «вера в факты», в незыблемые постулаты в истории христианства уже давно последовательно сдает свои позиции. Нетрудно назвать примеры этого процесса, идущего, по крайней мере, со времен Коперника: это и геоцентрическая модель Вселенной, и библейская картина творения мира в ее буквальном понимании, и многочисленные проблемы авторства библейских текстов, и отношения к нехристианским религиозным традициям, и многое другое. Скажем, ту ситуацию, когда человечество вплотную подошло к принципиальной возможности клонирования человека, немалое число верующих способно воспринять как катастрофу в области веры. Да и во многих других областях знания получены данные, позволяющие усомниться в правильности того взгляда на вещи, который предписывает сложившаяся церковная ортодоксия. Налицо некий динамический процесс раздвижения границ познания, когда постулаты и объяснения, до того незыблемые, закрепленные в традиции и освященные именем Бога сменяются на иные, причем все более достаточно естественные, не привлекающие Бога и «сверхъестественное». Это создает впечатление своего рода постоянного «отступления Бога[2]». Это впечатление весьма усиливается при виде болезненного отношения к процессу «раздвижения знания» многих христиан. Такое впечатление, что расставание с пересмотренными историей мнениями для них равносильно крушению самих основ бытия. Смотря на это, многие люди за пределами христианских церквей отнюдь не переполняются симпатией по поводу христианства.
Если православие в силу своего консерватизма подобные темы пока не особо затронули, то в среде христиан западных исповеданий подобные вопросы уже давно в самом фокусе дискуссий. Весьма интенсивными они были в ХХ веке, когда в них были вовлечены крупнейшие богословы. И если теолог-мученик Бонхёффер успел за несколько месяцев до гибели лишь наметить контуры осмысления осознаваемых им проблем христианской церкви в изменившемся мире, то его старший коллега и собрат по Лютеранской церкви Германии Пауль Тиллих, доживший до 1965 г., успел предпринять немало систематических усилий в направлении ответа на вызовы времени, в числе которых и обозначенные выше. Как и Бонхёффера, Тиллиха заботило непрерывное «отступление Бога», которое апологеты тщетно пытались затормозить, используя Бога как «затычку» (stop-gap) для дыр в человеческом познании[3]. В своих поисках ответов на вызовы Тиллиху пришлось вплотную столкнуться с исключительной распространенностью понимания веры, о котором мы говорили выше — как незыблемой уверенности в тех или иных положениях.
И вот это-то практически общепринятое понимание веры Тиллих и подвергает критике. «Вряд ли существует другой религиозный термин, употребляющийся как в теологии, так и в повседневной жизни, который подвергся бы большему числу неверных толкований, искажений и спорных определений, чем слово «вера»[4]», — пишет он в своей работе «Динамика веры (1957). В то же время, по его убеждению, в языке не существует другого слова, выражающего ту реальность, на которую указывает термин «вера». Единственным способом решить проблему является для Тиллиха попытка по-новому истолковать это слово, освободив его значение от сбивающих с толку и вводящих в заблуждение оттенков, большинство из которых — наследие предыдущих веков.
Вера как «предельная забота»
В наиболее концентрированном виде попытка решения Тиллихом этой задачи содержится в его книге «Динамика веры». Здесь он предлагает собственную трактовку слова «вера», использующую основную категорию его богословия: понятие «предельной заботы». Этот термин восходит к категории заботы (Sorge) в философии Хайдеггера, в понимании которого забота есть некая априорная несамодостаточность, неуравновешенность, онтологически присущая человеку, предшествующая всем человеческим стремлениям и влечениям[5]. Человек неизбежно озабочен в своей жизни многими вещами, как материальными, так и духовными. Однако Тиллих обращает внимание на тот момент в экзистенции человека, когда забота становится предельной, то есть претендует на всего человека, требуя принести в жертву все прочие заботы и интересы. Именно это состояние предельной охваченности заботой и отданности ей, счтитает Тиллих, и следует называть верой. Сюда, отмечает он, входит не только принятие этого безусловного требования полной самоотдачи, но и обещание исполнения, удовлетворения предельной заботы. Вера как предельная забота — не некая особая функция бытия человека, но акт всей личности, подчеркивает Тиллих. Этот акт происходит в самом центре жизни личности и включает в себя все ее элементы, объединяемые в этом акте. Вера, таким образом, это наиболее центрированный акт человеческой души. Она является и центрирующим актом, созидая личностный центр, позволяющий личности совершать действия не от внешнего принуждения, но внутренне мотивированные. В этом смысле вера тождественна свободе[6].
Предельная забота каждого благочестивого еврея, пишет Тиллих, выражена в Библии в формулировке первой заповеди в книге Второзакония: «Ты должен любить Господа, Бога твоего, всем сердцем, и всею душою, и всеми силами» (Втор 6:5). Именно это и означает предельную заботу. Процитированные слова из Второзакония недвусмысленно устанавливают характер подлинной веры — требование полной отдачи себя субъекту предельной заботы. «Вера для людей Ветхого Завета — это состояние предельной и безусловной заинтересованности в Яхве и в том, как Он обнаруживает себя в требовании, угрозе и обещании[7].»
И здесь мы подходим к важнейшему вопросу источника этой всеобъемлющей заботы. Ведь вера как предельная забота может быть подлинно религиозной лишь в том случае, если и сама устремлена к предельному, безусловному, к тому, что определяет мое бытие как таковое — к Богу, скажем мы, люди библейской традиции. Именно элемент безусловного и предельного, говоря в рациональных терминах, и составляет качество божественности в идее Бога, пишет Тиллих. Однако, помимо безусловного и бесконечного, претендуют на всего человека и иные, вполне конечные вещи. Тиллих много внимания уделяет различению истинной и ложной предельности как основной проблеме, сокрытой в человеческой способности веры. Именно этой проблеме и соответствует тема идолопоклонства, проходящая через всю Библию и являющуюяся одной из основных тем духовности Израиля, а затем и христианской духовности. Библейским термином «идол» можно назвать любую конечную вещь, которая претендует на предельность заботы человека, на всего человека, на «поклонение и служение» с его стороны (Исх.20:4). В качестве первого примера такой ложной предельной заботы (идолопоклоннической веры) Тиллих в первую очередь называет то, что в свое время в большой степени затронуло его как немца и христианина, вступившего в конфликт с нацистской идеологией — крайние формы национализма, когда в жертву национальному интересу приносится все остальное, включая справедливость и гуманность. Другой пример, который он приводит — это успех, бог стольких людей в современной культуре, который также обещает исполнение бытия человека и которому также приносят в жертву человеческие отношения, убеждения, творчество и т.д[8].
Отличить идолопоклонство, понимаемое как предельную заботу о непредельном, от подлинно предельной заботы можно по тому воздействию, какое эта забота оказывает на человека, считает Тиллих. Для объяснение этого он обращается к опыту акта веры, неоднократно и в различных символах описываемому мистиками, а на языке философии характеризуемому как исчезновение разрыва между субъектом и объектом. Предельное самого акта веры и предельное как его осмысляемая цель суть одно и то же. Бог никогда не будет объектом, не будучи в то же время и субъектом. Источник акта веры присутствует в качестве и субъекта, и объекта, и по ту сторону их обоих. Согласно Павлу (Рим 8), даже удачная молитва невозможна, если Бог как Дух не молится вместе с нами. Однако Бог как источник веры никогда не будет «схвачен» познанием как нечто конечное.
Напротив, объект предельной заботы, претендующий для человека на бесконечность, но не обладающий ею, остается объектом, на который верующий смотрит в качестве субъекта. Он, выражаясь философски, не способен здесь трансцендировать субъект- объектную схему. Конечно, тот же националистический экстаз способен породить такое состояние, в котором субъект почти поглощен объектом. Однако через некоторое время субъект возникает вновь и оказывается способен понять о предмете своей веры, что он конечен. Наступает отрезвение, поклонение сменяется разочарованием и скепсисом. «Экзистенциальное разочарование», проникающее в само существо человека — вот, в понимании Тиллиха, закономерное следствие идолопоклоннической веры. Будучи вначале, подобно всякой вере, центрированным актом личности, она затем, при разочаровании в ней, ведет утрате самого личностного центра, следствием чего может стать распад личности. Таким образом, показывает Тиллих, вера как предельная забота может и исцелить, и разрушить нас, и, соответственно, «святое» веры может быть и божественным, и демоническим[9].
Библия является именно той книгой, которая утверждает предельность предельной заботы. Именно Богу надо «поклоняться и служить», именно Его следует возлюбить «всем сердцем, и всею душою, и всеми силами» (Втор 6:5). Но еврейский народ не был способен преодолеть отождествление проводника откровения, каким являются внешние формы богопочитания, с содержанием откровения[10]. Он то и дело скатывался в «религиозность», в захваченность культом, воспринимаемым как спасительное дело. В борьбе с этим искаженным сакраментализмом и состоял пафос библейских пророков, подчинявших культ как проводник откровения суду божественному закона — такого, каким он должен быть потому, что он — закон Бога[11]. Вне справедливости и милосердия Господу неугодны ни жертвы и всесожжения, ни посты (Ис 1: 1-17, 58: 3-7), они не имеют никакой самодостаточной ценности.
Вера и сомнение
Перейдем теперь к еще одному обстоятельству, крайне важному для Тиллиха. Никакая борьба с идолопоклонством, с подменами бесконечного конечным в вере не отменяет конечной природы человека. Акт веры человека в Бога — это акт существа, захваченного бесконечным, но конечная суть самого человека от этого никуда не девается. Вера в Бога неизбежно преломляется через конечное человеческое сознание и конечные вещи: священные тексты, догму и культ, само сообщество веры, авторитет духовного лидера или учителя, освященный порядок жизни и т.п. Иначе не бывает, и то, с какой серьезностью и трепетом верующие люди склонны относиться к вышеперечисленным вещам, а, говорит о реальной силе вовлечения этих конечных вещей в акт веры.
Таким образом, констатирует Тиллих, в той мере, в какой вера осуществляется конечным существом и вовлекает элементы конечного, она содержит в себе элемент ненадежности. Этот элемент невозможно устранить, это необходимо принять. А для этого вера должна содержать еще один элемент — мужество. Мужество — это еще одна из основных категорий тиллиховского богословия. В нашем контексте оно означает утверждение своего бытия и своей веры, невзирая на все наследие в ней конечного, а значит, на присутствие риска, возможность провала. Следствием же наличия риска веры является сомнение. Оно, таким образом, составляет необходимый элемент веры[12].
Сомнение, включенное в веру, подразумеваемое верой, Тиллих призывает отличать от других видов сомнения. Это не методологическое сомнение ученого, вытекающее из предварительного характера всякой теории, подлежащей поэтому проверке. Это и не априорная позиция скептика, избегающего всякого утверждения и суждения. Сомнение, присущее вере, не отвергает конкретную истину, вне которой невозможно выражение веры. Но оно признает элемент ненадежности, содержащийся во всякой конкретной истине. Оно мужественно принимает эту ненадежность. Вера в понимании Тиллиха включает сомнение по поводу самой себя и, несмотря на это, утверждение самой себя. В этом и состоит динамика веры[13].
Динамика веры состоит для Тиллиха и в том, что включением сомнения в структуру веры не отменяется умиротворяющее утверждающее доверие, которым полны свидетельства и христианства, и других религий. Как может показаться на первый взгляд, неизбежность сомнения не оставляет для такого доверия места. Однако это не так. Дело в том, что верующий знает разные состояния: как состояние очевидности и доверия, так и состояние сомнения и его мужественного принятия. Ни то, ни другое не присутствует в акте веры в качестве постоянного опыта, но и то, и другое переживается верующим человеком на разных стадиях жизни[14]. Важно понимать, что в каждом из этих состояний он не перестает быть верующим, поскольку остается предельно озабочен предметом веры. Реальность веры, таким образом, имеет свои полюса.
Тиллих надеялся на то, что его понимание веры могло бы иметь большое практическое значение, помогло бы снять тот упоминавшийся вначале «комплекс вины» за критический склад ума, испытываемый немалым числом людей перед лицом мощной традиции «статичной» веры; убрать тревогу, вину и отчаяние по поводу того, что эти люди ошибочно называют «утратой веры». Таким людям, по мнению Тиллиха, следовало бы понять, что серьезное сомнение — это подтверждение веры, а не ее утрата, ведь оно свидетельствует о серьезности заботы, ее безусловном характере. Безразличие к предельному вопросу — вот, считает теолог, единственная форма атеизма, которую можно помыслить[15]. Тиллих в немалой степени адресует эти свои мысли тем, кто в качестве будущих или сегодняшних служителей Церкви испытывает не только научное, чисто методологическое сомнение в вероучительных утверждениях, но и экзистенциальное сомнение по поводу вести своей церкви, включая даже и сомнение в том, что Иисуса можно назвать Христом. Критерий, в соответствии с которым они должны судить себя, — это, по мнению Тиллиха, серьезность и предельность их озабоченности содержанием как своей веры, так и своего сомнения.
Возможно, добавим мы, таким людям помог бы евангельский Фома (Ин 20:24-29). Следует, конечно, оговориться, что было бы по крайней мере большой натяжкой и анахронизмом считать, что автор Евангелия от Иоанна имел своей целью в образе Фомы проповедовать нечто вроде идеи «динамической веры», да и вообще что-либо подобное в ключе экзистенциализма ХХ века. Цели включения в это евангелие образа Фомы, надо полагать, совсем иные. Однако образ Фомы весьма живой и яркий и, как это вообще бывает с великими образами, сам по себе не может быть сведен лишь к вещам сиюминутным вроде полемики против докетов, а достигает экзистенциальной глубины. Народные именования типа «Фома Неверный» или «Фома Неверующий» должны быть отвергнуты как неадекватные. Глядя на образ Фомы, мы видим, что для него вопрос, воскрес ли Иисус, был вопросом «предельной заботы», вопросом всего его существа. Именно тем, что он не мог быть решен для него легковесно, в обход опыта, говорящего о невозможности Воскресения. Его сомнение — не «железобетонный» скепсис, закрывающий все вопросы, а устремленность к Воскресению, жажда Воскресения, хотя и ощущающая отсутствие здесь каких-либо гарантий. Сомнение Фомы целиком включено в веру. И итог этого эпизода говорит сам за себя.
Последствия для богословия
Способность критического восприятия выражения веры является для Тиллиха новизной, принесенной в религиозный контекст христианством. Если ветхозаветные пророки во имя Бога и Его правды восставали против самодовлеющей религии и культового «самоспасения», то в христианстве уже появилась возможность осознать значение этого мощного протеста богословски, на рациональном уровне. Тем более, что проблема подмены Бога конечным человеческим религиозным содержанием присутствует во всей истории самого христианства, и против этой подмены были направлены и поиски мистиков, и критика религии с точки зрения разума, и профетический пафос Реформации и других движений и отдельных людей церкви.
Остановимся на втором из трех названных процессов, имеющем отношение к сфере богословия как рационального разговора в предельных вещах. Риск подмены предельного конечным присутствует не только в области культовых практик, но и в сфере вербального выражения содержания веры. Принцип апофазы, призванный напоминать о невозможности познания бесконечного Бога конечным разумом, не раз формулировался отцами Церкви 1-го тысячелетия и вспоминался впоследствии, но никогда не проводился в жизнь последовательно. Вместо него нередко практиковался и практикуется богословский буквализм, уничтожающий дистанцию между человеческим высказыванием и Богом, усваивающий высказываниям о Боге статус абсолютных истин о Нем и тем самым обожествляющим богословские высказывания. С другой стороны, ясно, что человек в выражении своей предельной заботы не может ограничиваться одним путем апофазы, чистой «vianegativa». Он не может не сказать о предмете своей веры и о своем опыте нечто положительное, утверждающее. Такие утверждения неизбежно составляют основу рационального содержания веры. Однако это содержание также конечно, поскольку конечно любое человеческое высказывание. Мы неизбежно берем «материал»[16]для своих рассуждений о Боге из своего обычного опыта. Но, как мы уже говорили выше, никакая конечная реальность не способна выразить истинно предельное прямо и буквально. Здесь для Тиллиха лежит ключ к понятию символа. Символ — это элемент конечной реальности, используемый для того, чтобы сказать о бесконечном. Чтобы быть подлинным символом, этот элемент должен обладать способностью указывать за собственные пределы, на нечто помимо себя. А этой способностью, если говорить в религиозном плане, он может обладать лишь в том случае, если соучаствует в той силе божественного, на которую призван указывать[17]. Если Бог — «само-бытие», основание бытия, то сила символа указывать на Бога проистекает из того, что сам символ, будучи конечным, соучаствует в бытии. Поэтому, пишет Тиллих, символ не следует отождествлять со знаком, хотя знаки иногда называют символами (в наши дни это известно, например, программисту). Хотя знак, как и символ, указывает на то, что за его пределами, знак не обязан соучаствовать в реальности, на которую указывает, и может быть выбран индивидуально или по соглашению исходя из целесообразности или условий. Символ же является символом только тогда, когда соучаствует в том, на что указывает. По причине уже упомянутой нами невозможности буквального выражения предельного никаким другим способом, кроме символического, и вера не может выразить себя адекватно иначе, как символически. Язык веры — это язык символов. Поэтому, пишет Тиллих, не следует говорить «это лишь символ»: говорящий так свидетельствует этим о непонимании различия между знаками и символами и могущества символического языка, который в своем качестве и выразительности превосходит способность любого иного языка[18].
В качестве примера символа Тиллих приводит флаг страны, который соучаствует в ее могуществе и достоинстве и не может быть произвольно заменен: его замена может произойти только в результате исторической катастрофы. Мы можем добавить и примеры религиозных символов: небо с его бесконечной высотой; зерно, «умирающее» при посеве, но реализующее в результате этой «смерти» свои потенциальные возможности в прорастании; хлеб — основной продукт питания в земледельческой культуре и потому связываемый в ней с самой жизнью и т.д. Все это вещи из повседневной жизни человеческого сообщества, которое инстинктивно видит в них способность выражать те аспекты силы бытия, в которых они соучаствуют. Слово «инстинктивно» употреблено нами не случайно: символы рождаются из жизни непроизвольно, в отличие от знаков, их невозможно преднамеренно создать или конвенционально назначить. Они возникают в индивидуальном и коллективном бессознательном и способны действовать, лишь если их примет бессознательное измерение нашего бытия и бытия той группы, в которой они возникают[19]. Символы также объединяются религиозными традициями в связные рассказы, называемые мифами[20].
Так мы постепенно подошли к теме коллективного измерения веры, сообщества веры, составляющего важнейшую сторону практически любой религии. Не случайно, замечает Тиллих, чаще обращают внимание на место последней в обществе, чем на ее качество личного акта[21].
Вера и община
Человек — существо не одиночное, а существует в сообществе подобных ему разумных существ. Никакой духовный опыт человека невозможен без языка, а язык жив лишь в сообществе разумных существ. Следовательно, и сам духовный опыт зависит от общины. Лишь в языковом сообществе человек способен актуализировать свою веру, обрести содержание своей предельной заботы. Сам язык веры, язык символа, как мы только что видели, не конструируется индивидом, а рождается в недрах сообщества.
В коллективном измерении веры мы, помимо прочего, сталкиваемся со следующим обстоятельством: это измерение всегда в той или иной форме и степени включает вероучительные положения, обязательные для индивида, входящего в сообщество веры. Во всяком случае, в христианстве этот момент весьма силен: как мы уже заметили, христианская церковь — это сообщество с исторически сложившимся догматическим сознанием. И если рассматривать сомнение как неотъемлемый элемент веры, то возникает противоречие. Ведь в самом деле, разве не существует потребности общины веры в том, чтобы сформулировать содержание своей веры в виде вероисповедного утверждения и потребовать от всех своих членов принять это утверждение? Способна ли такая община, например, та или иная христианская церковь, принять такое понимание, когда сомнение не только допустимо, но его серьезность почитается как выражение веры? И даже если община допускает возможность такой позиции у своих рядовых членов, может ли она позволить то же самое своим лидерам? Словом, не поколеблет ли основ самой общины внесение элемента сомнения в понимание веры? Не является ли оно попросту выражением «протестантского индивидуализма и гуманистической автономии», чуждого природе общины веры?
Тиллих отдает себе отчет в серьезности подобных вопросов, встающих на пути утверждения «динамического» понимания веры. Однако они не являются для него препятствием для утверждения этого понимания. Существовавшие в истории факты культурного и религиозного подавления автономного разума, осуществлявшиеся ради утверждения тех или иных вероучительных положений больше не должны повторяться. Что же касается общепринятого характера вероучительных положений, то в христианстве, считает Тиллих, он связан с потребностью оградить общину от «демонических» (в его терминологии) влияний, т.е. от тех конечных «забот», которые выдают себя за предельные. Здесь находится подлинный смысл понятия «ересь». Еретик в подлинном смысле слова — это не тот, кто обладает ошибочными верованиями, это лишь возможное следствие, считает Тиллих. Еретик — тот, кто от истинного интереса обратился к ложному, идолопоклонническому интересу и может таким же образом повлиять и на других, разрушить их и подорвать устои общины. Эти явления община должна предотвращать. Однако в реальности в жизни общин всегда играли (а порой играют и по сей день) роль и интересы государства, видящего в церкви основу для единства и конформности общества, и фанатизм самих верующих, и простая потребность членов общины в уверенности, и иные причины, способствующие формированию «статичной» веры и обращению борьбы с идолопоклонством в подавление автономии и творчества личности. Динамическая вера, таким образом, нуждается в защите. А для этого, убежден Тиллих, «символы веры», выражающие предельный интерес общины, должны включать самокритику. Они — будь то литургические, вероучительные или этические выражения веры общины — призваны указывать на предельное, которое находится вне них, но одновременно они должны со всей очевидностью показывать свою собственную непредельность. Иными словами, символ должен быть понят как символ, а миф как миф. Это состояние Тиллих называет «сломанным мифом», и именно христианство является той религией, где эта возможность становится реальностью[22].
С христианской точки зрения, пишет Тиллих, можно сказать, что община веры, церковь со всеми своими учениями, институтами и авторитетами «подлежит Кресту», если под Крестом понимается пророческий суд над религиозной жизнью человека и даже над самим христианством, принявшим знак Креста. Жизнь общины веры, как и жизнь верующей личности — непрекращающийся риск. Таким образом, принцип динамики веры оказывается приложим у Тиллиха не только к отдельной личности, но, ради защиты самой личности — и к общине. С этим связан провозглашенный теологом т.н. «протестантский принцип», включающий критическое отношение ко всем видам религиозного выражения веры. Впрочем, подчеркивает Тиллих, протестантизм отнюдь не всегда был верен этому принципу, нередко изменяя духу профетической критики религиозных проявлений и приходя в состояние не меньшего окостенения, чем и другие христианские исповедания. Сам же Тиллих весьма последовательно применял этот принцип в своем творчестве: словно с фонарем он прошелся со своим критическим подходом по всем основным темам христианского богословия, не отвергая традиционных формулировок, но высвечивая конечность и несамодостаточность каждой из них, обнаруживая в них трудности, амбивалентности, возможные «языческие коннотации» и т.д. там, где, как хотело бы думать консервативное религиозное сознание, проблематика уже ушла навсегда.
Однако, если такой подход и будет встречен с восторгом в малых группах религиозных интеллектуалов и гуманистов, то вопрос, насколько реалистична перспектива принятия такого критического подхода большими и традиционными религиозными сообществами, не снимается. Ведь сомнение, рефлексия, осознание риска веры и мужество быть и верить перед лицом этого риска и т.п.- все это в первую очередь относятся ко внутреннему миру индивида, а не сообщества, принадлежат области личностных, сознательных актов. И слишком много данных в пользу того, что в сообществе, напротив, неизбежно усиливается фактор бессознательного. Реальные скрепы сообществ, как правило, носят именно такой характер нерефлексивной охваченности теми верованиями, которые рассматриваются как верования общины, идентификация с религиозной общиной ее членов была и чаще всего остается связанной с буквальным, несимволическим принятием «символов веры».
Тиллих, осознавая эти тенденции, описывает их как определенную стадию развития разума. Лишь на определенном этапе разум оказывается способным выйти за пределы символа и мифа и принять мужество жить перед лицом ненадежности всякого конечного выражения веры. Предыдущая же стадия этого развития еще характеризуется буквализмом. Это неизбежный «естественный буквализм», когда символ, в силу того, что он, как мы уже говорили, рожден в бессознательном, еще не отрефлексирован как символ, не отделен от факта. Такое положение вещей, считает Тиллих, имеет полное право на существование до тех пор, пока сила вопросов еще слаба и вопрошающий разум не начал во весь голос требовать «слома» мифа. До момента созревания этих предпосылок демифологизации беспокоить индивида и группу, исповедующих буквализм, безопасной уверенности, не следует. Однако, на той стадии, когда этот момент уже наступил, подавление автономной мысли и «динамического» способа веры с помощью психологических, политических или иных методов является, по сути, стремлением разрушить зрелый ум в его личностном центре. В этом случае мы имеем дело уже не с «естественным», а с реакционным «сознательным» буквализмом. Это буквализм отдает себе отчет в существовании вопросов, но стремится подавить их во имя авторитета: Церкви, Библии, незыблемого Предания и т.п., там, где выход должен состоять в замене «несломанного» мифа «сломанным»[23].
Рисуя эту картину, Тиллих, по сути, преследует цель обоснования критической теологии, являющуюся необходимым следствием трансформации религиозности, которая соответствует переходу разума на новую стадию развития. Такой взгляд можно назвать взглядом с позиций христианского модерна, который, исходя из ценности человеческого разума, в то же время, в противоположность модерну секуляристскому, не отбрасывает религиозности как отжившей стадии сознания, но признает ее неотъемлемой принадлежностью человека как конечного самоосознающего существа, испытывающего «предельную заботу» по поводу своего конечного характера. Вера и разум, тем самым, оказываются примирены. Такова в своей основе апологетическая стратегия христианского теолога Тиллиха перед лицом меняющегося мира.
Нетрудно, однако, понять, в какой идейный конфликт вступает такая стратегия с христианским консерватизмом, остающимся влиятельным во многих церквах — с тем, что фактически описал Тиллих, говоря о «сознательном буквализме». Даже с умеренными консерваторами, явно не отрицающими принципиальной возможности созревания разума, было бы весьма трудно установить консенсус относительно определении момента этого созревания и соответстувющего ему «слома» мифа, поскольку для консерватора любое настоящее время — «еще не время». Не говоря уже о крайних фундаменталистах, в принципе отрицащих возможность «демифологизации» и полагающих буквальный смысл «символов веры» незыблемым. Верующие либерально-модернистского склада ума, напротив, стремятся как можно быстрее высвободить разум из-под власти непогрешимых догм буквализма. На практике же в этом сложном балансе тенденций, существующем в религиозных сообществах, чаще всего превозмогает консервативная тенденция. С критическим «протестантским принципом» Тиллиха трудно совместим «православный принцип», как можно было бы определить укорененное в православии догматическое сознание, не допускающее серьезного критического обсуждения догматов. Оно же является и «католическим принципом». Но не примут «протестантский принцип» и догматически, «библицистски» настроенные протестанты, также достаточно многочисленные. Следует заметить, что неприятие во многих случаях усиливается не столько идейным оппонированием, сколько простым непониманием, вызванным чуждостью подхода устоявшимся конфессиональным схемам мышления, когда не представляется сама возможность выхода за их пределы.
Заключение
Безусловно, тиллиховская переинтерпретация понятия веры как предельной заботы человека об основании собственного бытия, когда одновременно осознается и конечность любого ее выражения, дает определенную надежду для христиан и верующих в целом. Как можно надеяться, динамичная вера способна устоять в динамичном мире, где постоянно сменяют друг друга культурные и мыслительные парадигимы. «Отвязка» веры от знания, несовершенного и изменчивого по самой своей природе, способна снять как проблему «потери веры» рефлексирующим индивидом, так и проблему постоянного «отступления Бога» на уровне человечества в целом. Как пишут в связи с этим С.В.Лезов и С.В.Тищенко, «если вера — это «захваченность тем, что касается меня безусловно (П.Тиллих), то разрушить ее можно вместе с самим человеком[24]».
Конечный, ограниченный, несовершенный характер любого нашего знания, невозможность точного описания реальности — вот тот фон, в который вписывается тиллиховский «протестантский принцип» критического отношения к любому человеческому выражению религиозности. Корни здесь достаточно ясно видны — это кантовская гносеология, «коперниканский переворот» в теории познания, осуществленный великим кенигсбергским философом: предмет познания всегда остается «вещью в себе»; познавая, мы не рассматриваем реальность как она есть, а в известном смысле «конструируем» ее. Констатация неизбежного зазора между познанием и реальностью в определенной мере предвосхищена уже упоминавшимся принципом Сегодня, при смене гносеологической парадигмы с платоновской на кантовскую, (чему соответствует переход от догматического типа мышления к критическому), принцип апофазы приобретает особо актуальное звучание. При этом, как необходимо подчеркнуть, вовсе не закрывается возможность катафатических, положительных высказываний о Боге, но лишь подчеркивается их не гностический, а неизбежно символический статус, который лишь один и имеет в нашем конечном мире силу выражать аспекты основания бытия. Богословие Тиллиха — это богословие глубокого постсредневековья, когда традиционный механизм передачи религиозных смыслов по наследству, «от отца к сыну» уже давно если не полностью утратил работоспособность, то, во всяком случае, лишился тотального характера. Для человека, подобно своим предшественникам в череде поколений получившего основы религиозного знания «с молоком матери», это знание априорно, оно почти незыблемо и дает выработанные традицией ответы на главные вопросы человека, защищая его от ужаса перед смертью и неизвестностью будущего. Эта защита в условиях традиционного уклада жизни весьма надежна и не устоит лишь перед крайней силой вопрошаний. Современный же человек, над которым не имеет власти прежняя религиозная традиция, находится в иной ситуации: он ничем не защищен от «предельных» вопросов и вызываемого ими онтологического шока от угрозы небытия. Этому состоянию и соответствует тиллиховское понимание веры и «мужества быть» как утверждения своего бытия человеком, невзирая на конечность существования. Здесь же можно видеть и серьезную предпосылку оживления религиозности (в экзистенциальном, а не внешнем, культурно-обрядово-догматическом смысле слова) в современном мире. Тогда безверие или атеизм можно трактовать в указанном ранее смысле Тиллиха: это не некая «ложная» вера, но отсутствие интереса к смыслу своего существования (если такое вообще возможно). Здесь как бы переинтерпретация тертуллианова «душа по природе христианка», но уже на новом, соответствующем опыту середины ХХ в. уровне осмысления.
Говоря, как кажется на первый взгляд, лишь от лица меньшинства в христианской церкви — от лица критически мыслящих людей, склонных задавать себе и другим неудобное вопросы — Тиллих, по сути, формирует почву для универсального диалога, стремясь говорить о вещах, могущих быть понятными каждому из внутреннего опыта. С «предельными вопросами», не имеющими конечных ответов, может столкнуться в своей жизни любой человек. Способность к религиозной вере, понимаемая как способность к захваченности предельной заботой об основаниях собственного бытия, является, таким образом, «видовым» свойством, константой конечного, но разумного и самоосознающего существа, называющего себя человеком. Подход Тиллиха направлен на преодоление исторически суженных толкований веры, исключающих целые категории людей из числа верующих.
Однако, быть может, самая большая трудность его идей для принятия в наши дни — это заметное несоответствие их универсализма «духу века сего». А «век сей» чаще всего определяют через понятие постмодерна, одной из характеристик которого является как раз отрицание универсальности, универсальных тем. Любая претензия на универсальность, любой разговор об универсальных понятиях мышление постмодерна воспринимает с недоверием, в них ему чудится призрак тоталитаризма, угроза нового террора во имя одной на всех абсолютной истины. Способ борьбы постмодерна с ненавистной «тотальностью» — это дробление всего и вся, идеал здесь — множество частных, непересекающихся дискурсов, живущих своей жизнью и, в силу своего непересечения, дающих жить другим. Чуть утрируя тенденцию, можно сказать, что и дробится сегодня и Библия: еще шаг — и мы будем иметь Библию для детей, Библию для беременных, Библию для байкеров и т.п.
Напротив, модерн (если не иметь в виду его тоталитарно-позитивистские ответвления) видит противоядие от подавления личности не в дроблении дискурсов, а в диалоге. Последние работы Тиллиха написаны в первой половине 60-х годов ХХ века, когда еще не угас импульс модерна, подразумевающего ценность разума и поиски универсального. Сам Тиллих со своим стремлением выработать новый, общепонятный религиозный язык принадлежит этому позднему модерну в его богословском измерении. Однако 60-е годы, по сути, и завершили эпоху модерна. Уже в 70-е устами Жан-Франсуа Лиотара постмодерн «объявил войну тотальности[25]» — и действительность не заставила себя ждать, обернувшись парадоксальной, «мягкой» войной с универсальными смыслами.
Означает ли это бесперспективность тиллиховских тем для нашего времени? Думается, что вовсе нет. Слишком сильно они затрагивают основы существования каждого человека. Тем более, что и сегодня рядь выдающихся мыслителей, отстаивают неисчерпанность потенциала модерна[26], а значит — и темы универсальных смыслов. Пока в них ощущается потребность, пока есть нужда в вопросе, что есть человек, тиллиховский разговор о вере как устремленности к бесконечному будет иметь перспективу.
[1]Пауль Тиллих. Динамика веры. Раздел: Что не есть вера. 1. Интеллектуалистское искажение смысла веры.
[2]На это, в частности, указал в своих знаменитых письмах из нацистской тюрьмы Дитрих Бонхёффер: «Мне еще раз стало абсолютно ясно, что мы не имеем права использовать Бога как аварийный выход для нашего несовершенного познания; если в таком случае (что вытекает с объективной необходимостью) границы познания постоянно раздвигаются, то вместе с ними так же постоянно оттесняется и Бог, который, так сказать, пребывает все время в отступлении». «Сопротивление и покорность». М., 2003, с.
[3] «Одной из самых неудачных и малопочтенных форм апологетики4‘является та, которая прибегала к так называемому
«argumentumexignorantia»5‘, состоявшем в стремлении обнаружить пробелы в наших научных и исторических знаниях, с тем чтобы найти место для Бога и его деяний в том мире, который во всех остальных отношениях был бы совершенно вычисляемым и «имманентным». По мере прогресса наших знаний пришлось оставить другую оборонительную позицию, однако пылкие апологеты, хотя они и были вынуждены все время отступать, все равно в новейших физических и исторических открытиях продолжали изыскивать все новые и новые поводы для того, чтобы заполнять божественным творчеством новые пробелы научного знания. Эта недостойная методология привела к дискредитации всего того, что называлось «апологетикой»». (П. Тиллих, «Систематическая теология», раздел 1:2).
[4] Это даже притом, что в английском языке, на котором Тиллих написал почти все свои наиболее зрелые работы, имеется два основных слова, выражающие понятие веры:beliefкак исповедание некоего мнения и faith,более соответствующее состоянию внутренней захваченности чем-либо и устремленности к нему. Тиллих в процитированном фрагменте, как и во всей книге, говорит о понятииfaith; даже оно оказывается для него «зараженным» неверными, сбивающими с толку коннотациями.
[5] Именно из соображений сохранения преемственности с хайдеггеровским понятиемSorgeтиллиховское ultimateconcernкорректнее, на наш взгляд, переводить как «предельная забота», а не, например, «предельный интерес», как переводят иначе.Sorgeв немецком — прежде всего, забота, беспокойство и тревога, что больше, нежели «интерес», соответствует тому трагичному состоянию человека, которое акцентируют и Хайдеггер, и Тиллих. Подробнее о рецепции идей Хайдеггера Тиллихом и Бультманом см., напр.: Т.Лифинцева. Бультман и Тиллих: демифологизация и рецепция идей Хайдеггера. — «Вопросы философии, № 5.
[6]«Динамика веры». Вводные замечания. Раздел 2: Вера как центрированный акт.
[7]Там же.
[8]Там же.
[9]«Динамика веры». Вводные замечания. Раздел 3: «Источники веры».
[10]П. Тиллих. Систематическая теология. Т.1,2. М. 2001, с. 145.
[11]Там же, с. 143.
[12]П.Тиллих. «Динамика веры». Вводные замечания. Раздел 5. «Вера и сомнение».
[13]Там же.
[14]Там же.
[15]Динамика веры. Символы веры. 2. Религиозные символы
[16]Систематическая теология. Т.1-2,с.294.
[17]Систематическая теология. Т.1-2, с.???
[18]Динамика веры. Раздел: Символы веры. 2. Религиозные символы.
[19]Динамика веры. Раздел: Символы веры. 1.Смысл символа.
[20]Там же, З.Символы и мифы.
[21]Динамика веры. Вводные замечания. 6. Вера и община
[22] Динамика веры. Раздел: Символы веры. 3. Символы и мифы.
[23] Там же, 3.Символы и мифы.
[24] С.В.Лезов, С.В.Тищенко. Возвращение Иисуса в еврейский народ (Послесловие) //Загадка Христа. Две эпохальные работы об Иисусе. Д. Флуссер, Р. Бультман. — М.: Эксмо, 2009, С.177-178.
[25]См., напр.: J.-F. Lyotard.The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, in «From Modernism to Postmodernism. AnAnthology», ed. byLawrenceCahoone: BlackwellPublishers, 1996, p. 504.
[26] К эти мыслителям относится, в частности, Юрген Хабермас — см., напр., его работу «Модерн — незавершенный проект» и другие работы этой же тематики.