Курс Д.Б. Матвеева, как он сам говорит, «это не катехизис и не конфессиональная апологетика. Это просто попытка думать и приглашение думать. Вряд ли стоит ожидать от этого курса окончательных ответов, а вот если он поставит на новом уровне вопросы – это будет нашей общей удачей».
Лекции были прочитаны в колледже «Наследие» 20.04 и 27.04.2017.
Текст лекций публикуется в редактированном виде
Иллюстрация: Павел Филонов. Мировой расцвет. х.м.,1916. ГТГ.
20.04.2017
Д. Матвеев: – Первый раз определение текущей ситуации как ситуации постмодерна прозвучало в первой половине 70-х годов ХХ века. Поясним, что в тот момент под этим определением имелось в виду.
Мы уже достаточно много говорили о том, что, начиная с эпохи Просвещения в традиции европейской мысли особенно возросла ценность человека и ценность разума. Мы способны, вольны и даже должны пользоваться собственным умом, говорил Кант. Человек, его разум, его свобода – все это стало ценностями Просвещения и той эпохи, которой Просвещение положило начало: эпохе модерна. Человек понимался в модерне в первую очередь как свободный и разумный.
Мы также говорили, что в конце XIX — начале XX вв. три весьма влиятельных мыслителя – Маркс, Ницше и Фрейд – каждый по-своему усомнились в свободе и разумности человека как его основополагающих свойствах. Мы говорили, каким образом это выражал каждый из них и повторять это сейчас не будем, но суть в том, что все трое констатировали, что человеком движет в первую очередь не его разум и свобода, а что-то иное (что именно в первую очередь – на это каждый давал свой ответ). И тем самым было уже положено начало какой-то иной ситуации мышления и самопонимания человека, следующей по отношению к модерну.
Модерн предполагает отношения к человеку, его разуму и свободе именно как к ценностям, причем к ценностям универсальным, общим для всех людей.
Но если Маркс, Ницше и Фрейд еще в сравнительно благополучное время усомнились в человеческой свободе и разумности, то еще больше усилили эти сомнения обе мировые войны и феномен тоталитаризма. Мы все знаем, какие катаклизмы, настоящие антропологические катастрофы произошли в это время. Люди, по сути, массово продемонстрировали господство в них чего-то совершенно противоположного разумности и свободе.
В. Стрелов: – Каков статус истины в модерне и постмодерне: он же в них разный?
Д. Матвеев: – Конечно разный, как и у самого разума. Истина ведь это и есть то, к чему стремится разум.
В. Стрелов: – Но в модерне ты можешь достичь истины, а постмодерне?
Д. Матвеев: – Это и в рамках самого модерна решается по-разному. Сам модерн, по крайней мере, начиная с Канта, в этом смысле неоднороден. В его рамках выработаны по меньшей мере два типа отношения к способности разума познавать истину. Один тип отношения привел в XIX в. к возникновению такого феномена мысли, как позитивизм, который утверждает, что с помощью методов науки возможно точное познание истины. Наука дает нам для этого все инструменты. Второе отношение идет от Канта – это критика разума. Мы уже много раз говорили об этом на протяжении нашего курса: по Канту все то, как мы мыслим реальность, на самом деле, некие приближения к реальности. Как я говорю (не знаю, насколько корректно) – модели реальности, если использовать современный термин. То есть некие приближения. А реальность «вещи в себе», как говорил Кант, она так и остается тайной. Поэтому разум не дает нам точного познания истины. Мы с вами много говорили о том, что кантианский анализ разума ознаменовал становление критической парадигмы мышления, в том числе и в рамках христианства.
В 20 веке у Канта были продолжатели в этом смысле, наиболее известен Карл Поппер. Я бы назвал еще и его личного друга Фридриха Хайека: его обычно вспоминают в связи с экономикой, но мне кажется, что они с Поппером оба внесли серьезный вклад в эпистемологию, философию познания. И этот вклад имел в основе кантианский, критический подход.
Почему, собственно, и Поппера с Хайеком, как и Канта, следует считать мыслителями модерна? Потому, что разум как ценность для них остается, свобода как ценность остается. При том, что разум принципиально ограничен. И, соответственно, ограничены познавательные возможности науки. Поппер говорил, что научна не та гипотеза, которую можно подтвердить, но та, которую можно опровергнуть, в том смысле, что можно указать процедуры ее опровержения, которые могли бы ее опровергнуть. Такое положение дел и есть следствие принципиальной ограниченности разума. Но это для Поппера, как и для Канта, не отменяет того, что разумом можно и должно пользоваться. Человек к этому призван. Мышление и стремление к истине, невзирая на все риски ошибок, на все очевидные личностные и исторические кризисы разумности, остается ценностью. Это призвание человека, неотъемлемая часть человечности. И мыслить в такой системе ценностей значит продолжать мыслить в ключе модерна.
А что такое постмодерн? Это более радикальная реакция на упомянутые исторические кризисы. Это отрицание каких бы то ни было всеобщих, универсальных ценностей как идей. И, конечно, идеи разума в качестве такой ценности в том числе.
Такая реакция, проявившаяся в начале 70-х характерна в первую очередь для ряда французских философов. Первым, кто употребил слово «постмодерн», был Жан-Франсуа Лиотар. Его программная статья 1973 г. так и называлась: «Состояние постмодерна».
Лиотар нападает на саму идею провозглашения каких бы то ни было универсальных ценностей. Он считает, что именно эта тенденция и вызывает к жизни тоталитаризм. Все виды тоталитаризма – советский, гитлеровский – основаны на такой тотальности мышления, предполагающей некие универсальные ценности. Словесное выражение этих ценностей он называет словом «метанарратив».
Нарратив – значит повествование, текст (в том широком смысле этого слова, в котором его употребляют современные философы, те же постмодернисты), а метанарратив – это такое суперповествование, подходящее для всего, всё объясняющее, дающее всеобщее руководство к жизни.
В. Стрелов: – Вообще, христианство – это метанаррратив.
Д. Матвеев: – А вот это интересный вопрос. Мне приходилось участвовать в его обсуждении. С одной стороны – да, а с другой – есть надежда, что нет. Метанарратив – это текст, претендующий на универсальную истину. Если к христианству относиться в первую очередь как к такому тексту (а внешне все ведь так и выглядит), то тогда оно действительно метанарратив, со всем тянущимся за этим шлейфом обвинений в тотальности, чреватой репрессивностью. Но если пытаться смотреть глубже текста, возможны варианты.
В. Стрелов: – Христос говорит, что Он – камень, на который кто упадет, тот разобьётся, а на кого он упадет, того раздавит. О чем Он говорит? О том, что есть истина, и столкновение с этой истиной бывает болезненным. Весь вопрос в том, хотят люди с ней сталкиваться или нет. Всякая фашистская и коммунистическая истина себя навязывает. А Христос предлагает Себя. Мне кажется, здесь просто…
Д. Матвеев: – А вот попробуй докажи, что христианство себя не навязывает. Думаю, мы много чего услышим в ответ. Услышим хотя бы то, что Христос и христианство – не одно и то же. Все не так просто…
Так вот, Лиотар, а за ним и другие философы-постмодернисты провозглашают: тотальность рождает террор. И получается, что любая попытка установить всеобщий консенсус тоже чревата репрессивностью. А что делать, чтобы этого не было? Как жить? Постмодернисты говорят: а вы посмотрите на человеческую жизнь вокруг. Есть локальные консенсусы, частные традиции, и каждая естественно и органично существует. И они взаимно непереводимы, но это и не страшно, так и должно быть. И не надо переводить один дискурс на языки других. Что, фактически, и означает, что истины никакой нет. Но, тем не менее, надо признать за всеми этими дискурсами право на непереводимость и никого не беспокоить универсальными вопросами. Конечно, консенсус где-то и возможен, и нужен, но это консенсус рабочего порядка, возникающий по случаю, по необходимости.
В. Стрелов: – А тебе не кажется, что такая же реакция была у софистов? Когда можно доказать одно, другое…
Д. Матвеев: – Софисты же на этом еще и деньги зарабатывали.
В. Стрелов: – Ну, да. Но для них тоже истины как объективной реальности не существовало.
Д. Матвеев: – Да. Но софисты брали заказы на доказательство чего угодно, это их хлеб был. У постмодернистов такой неприкрытой корысти нет. Они искренне уверены, что главное – друг друга не трогать, в том числе, и всякими глобальными вопросами, и тогда не будет террора. Лиотар, Бодрийяр, Делёз, Фуко, Деррида – вот некоторые имена ведущих постмодернистов.
Д. Харламов: – Тогда получается, что единства нет, и невозможно жить в обществе…
Д. Матвеев: – Нет, в обществе, конечно, можно и нужно жить – в своем локальном обществе, как оно сложилось. Допустим, мы живем в своем православном обществе. У нас есть наше православное единство. И мы к другим не будем лезть, и пусть другие к нам не лезут тоже. Примерно такой подход.
Постмодернистами был даже разработан такой философский образ реальности – ризома.

Ризома – буквально «корневище». Из ботаники мы знаем, что бывают две корневые системы растений: стержневая и мочковатая. Мочковатый корень, собственно, и есть ризома. Вот реальность, как они считают, именно такая и есть, в ней нет никаких стержневых тенденций, она растет одинаково в разные стороны и так развивается, без главного и второстепенного. И в этом залог ее креативного разнообразия.
В. Стрелов: – Проблема постмодерна, мне кажется, в том, что постмодерн размывает христианство изнутри, в том смысле, что уже сами христиане друг по отношению ко другу говорят «а кто я такой, чтобы утверждать, что я правильно понимаю истину». И поэтому тому человеку, который даже со мной в общении, я ничего не могу сказать, потому что «откуда я знаю, что я вообще что-то понимаю». И сама истина христианства сводится до пространства даже не локального общества, а конкретного человека.
Д. Матвеев: – Это то, что называют атомизацией. Да, эта проблема тоже возникает.
В. Стрелов: – Мне кажется, что это прямое следствие того, что ты принимаешь постмодерн сначала как общую философию.
Д. Матвеев: – Наверное, одно из возможных следствий. В любом случае, постмодерн я назвал бы философией разочарования во всем.
Д. Харламов: – А что было до модерна?
Д. Матвеев: – Средние века. Тогда была очень стройная картина мира. Мы говорили об этом, когда рассматривали антропологический поворот как конец средневековья. Как видели мир в средние века? Бог, сотворенное Им стройное мироздание, посредничество ангельских сил, их иерархичность (как у Псевдо-Дионисия). И человек, который, с одной стороны, занимает не главное место, потому что главное у Бога, а с другой стороны – место достаточно почетное, потому что всё для него, в конечном счете. Именно для его спасения Бог все устраивает в истории, и вообще изначально весь мир – для человека. Нужно только быть встроенным в эту гармонию.
А что наступило непосредственно перед модерном? Что такое крушение средневековья? С одной стороны, человек стал автономным, а с другой стороны – он стал маленьким и затерянным, потому что мыслимый космос расширился. Тот же Коперник сказал, что Земля не в центре. Даже и сам земной мир расширился в результате Великих географических открытий…
И если в средневековье все четко определено, то модерн начинается с ощущения, с одной стороны, свободы и автономии человека, а с другой – его затерянности в мироздании, как сильно позднее сказал Хайдеггер – заброшенности в бытие. Уже Паскаль говорит, что человек – это мыслящий тростник. Мыслящий, но его чуть тронь – он переломится. Ощущение хрупкости. Поэтому Кант и говорит, что для пользования собственным умом требуется мужество. А уже в 20-м веке такой яркий богослов позднего модерна, как Тиллих, говорит вообще о «мужестве быть». Чтобы быть, чтобы жить, требуется мужество, потому что бытие нужно осуществлять в этой затерянности. И в этих условиях затерянности все равно есть ценности, возможны цели, и человек стремится их достигать. Эти цели могут быть общезначимыми. Вот это – модерн.
А в постмодерне общие цели отрицаются с той мотивацией, что иначе мы себя опять загоним в какое-нибудь стойло. Конечно, можно размышлять, насколько прав такой взгляд. У них получается, что локальное террор не рождает, а рождает его только универсальное. Но можно задать вопрос: а разве локальные дискурсы и их осуществление в жизни не могут быть столь же гнетущими, как ярко выраженные универсалистские идеи?
В. Стрелов: – А, что ты имеешь в виду, говоря «локальный дискурс»?
Д. Матвеев: – Да что угодно, начиная от любой секты…
В. Стрелов: – Если секта, то она претендует на универсализм, на самом деле.
Д. Матвеев: – Я думаю, что скорее наоборот. У Мейендорфа где-то есть такое определение секты: секта – это группа людей, которые верят, что спасутся только они, и испытывают от этого удовольствие.
В. Стрелов: – Значит, у них есть универсализм.
Д. Матвеев: – Но им же наплевать на других! И в этом смысле у них нет универсализма. Тут критерием может быть миссионерский императив. Почему христианство – не секта? Потому, что у него этот императив есть.
В. Стрелов: – Мне кажется, все секты, если они хотят выжить, должны миссионерствовать.
Д. Матвеев: – «Хотят выжить» – это что-то похожее на тот самый локальный консенсус к случаю, о котором говорят постмодернисты. Не ради истины, а ради выживания.
Д. Харламов: – Что вы понимаете под «выжить»?
Д. Матвеев: – Да прямо физически выжить. Сообщество может умереть по естественным причинам, в отсутствие воспроизводства.
В. Стрелов: – Это какие-то группы, типа старообрядцев…
Д. Матвеев: – Причем, наверное, даже не московские старообрядцы. Московские мне попадались совершенно нормальные, общительные люди. Возможно, где-то в глубинке остались такие кондовые…
В. Стрелов: – Но они, все равно претендуют на то, что у них универсальная истина. И это значит, что тогда Лиотар не прав, потому что можно претендовать на истину.
Д. Матвеев: – Она универсальная для избранных. Они ощущают себя избранными, но у них, как правило, нет задачи привести к своей истине весь мир.
В. Cтрелов: – Получается, что критика постмодернистов работает против фашизма и против коммунизма, но она не работает против людей, которые убеждены в том, что они обладают исключительной истиной, но при этом не навязывают ее миру.
Д. Матвеев: – Наверное, можно так сказать. Но я бы заметил: если не говорят миру об истине, то и не выявляется, что это истина. Истинность значит универсальность, общезначимость. Лиотар говорит, что тоталитаризм коренится в эпохе Просвещения, когда есть претензия на истину, есть универсальные ценности: человек, разум, свобода…
Д. Харламов: – Что такое универсальные ценности?
Д. Матвеев: – То, что имеет значение для каждого человека. Разум и свобода, если они мыслятся как призвание любого человека, как то, что делает его человеком – это универсальные ценности. Но в этом направлении можно идти дальше. Вот, например, марксистская идея о том, что можно преодолеть отчуждение человека от продуктов своего труда. Да, собственно, начать можно с Гегеля: тот же марксизм можно рассматривать как специфическое, социально-экономическое выражение гегельянства. Гегель с его идеей абсолютного духа утверждал, что все на свете – это этот дух и его саморазвитие. Вот это – универсальная идея. Маркс дает вариант того же самого, только вместо духа там производительные силы и производственные отношения. Это некий универсальный процесс, который всё в истории определяет. Это и есть истина. И, соответственно, познав эту истину, мы можем «оседлать» этот процесс, саму историю, пользоваться ее непреложными закономерностями. Вот что значит «свобода как осознанная необходимость». Мы должны осознать, что зависим от этого неумолимого процесса, но мы можем его использовать.
Д. Харламов: – А цель тогда какая?
Д. Матвеев: – Цель – достигать все большего благосостояния, счастья всеобщего, вот как у Маркса. Многие ведь изучали Маркса?
Или, возьмем вариант нацизма. Тут уже работают идеи не Маркса, а скорее Дарвина. Но только дарвинизм перенесен из мира природы на человечество: есть некая непримиримая борьба различных человеческих рас по принципу «кто кого». И это неустранимо. Если не мы их, то они нас. Поэтому, собственно, и нужно было разрешить этот самый еврейский вопрос: иначе «они нас». Потому что миром правит этот принцип борьбы не на жизнь, а на смерть, и это нужно осознать. Это стержневая идея, если хотите, миф нацизма. И такая единая идея, единое объяснение рождает эту тотальность. Лиотар, собственно, из подобных наблюдений это и вывел.
Но интересно еще и другое. Оказывается, в постмодернистском мире, не приемлющем вообще никакого универсального, находится довольно комфортное место и для консервативной религиозности.
Действительно, если никто не стремится к универсальности и взаимопониманию, то наши частные догмы, наши традиции останутся в неприкосновенности. Дискредитация универсального в принципе – хороший способ получить иммунитет от критики.
В. Стрелов: – Но по факту это не так. Этические нормы, которые ценны для традиционных верующих, не будут сейчас высказываться даже публично, потому что традиционалистов могут обвинить в том, что они навязывают свою картину мира всем остальным. А, как раз, другие свою картину мира очень активно навязывают. То же самое, представление о демократии в американском варианте – оно же достаточно агрессивно навязывается.
Д. Матвеев: – Вот это и есть оправдание постмодерна. Не надо делиться ценностями, переводить дискурсы, давайте не будем друг друга критиковать…
В. Стрелов: – Но все равно конкуренция останется. Поэтому кто-то будет так жить, а кто-то не будет. И выиграет тот, кто не будет так жить.
Д. Матвеев: – Даже и конкуренция в постмодерне под вопросом: разве и она тоже вне общего пространства возможна? И, соответственно, вне перевода? Как можно конкурировать, если мы друг друга не понимаем? Тогда нет шансов, что моя ценность будет ценностью и для вас.
В. Стрелов: – А в том-то все и дело. Если раньше пытались апеллировать к каким-то общим вещам – разуму, чувствам и т.д., то на ХХ век остался только эмотивизм, когда если ты уверен в самом себе и в своих собственных подходах, то ты навязываешь это все другим. Сверхчеловеки навязывают всем свои идеи, и никто им запретить не может.
Д. Матвеев: – От «сверхчеловеков» постмодернисты, видимо, открестились бы. Но, конечно, в связи с этим словом вспоминается Ницше, которого мы и упомянули среди провозвестников постмодерна и который отвергал как раз саму идею ценностей как некую химеру. Его сверхчеловек волен осуществлять переоценку всех ценностей.
Но опять же интересно, что на эту идею сверхчеловека тоже можно посмотреть как на просвещенческую по происхождению, хотя вроде бы он стремился преодолеть идеологию Просвещения. Вообще все мыслители – предтечи постмодерна, с одной стороны, уже вне модерна, а с другой – что называется, «одной ногой» в модерне остаются. Тот же Фрейд свято верил в науку и ее силу, несмотря на то, что его теорию часто критикуют именно с позиций научности. Поппер считал, что теория Фрейда не может быть опровергнута (фальсифицирована, как он говорил) и, значит, ненаучна. Маркс с его глобальной идеей гегельянского типа, о чем мы уже сказали – еще в большей мере мыслитель модерна.
В. Стрелов: – Именно потому, что теория Ньютона сформулирована так, что можно сказать, что при таких-то и таких-то условиях она работать не будет, она и является научной. А если бы она претендовала на объяснение всего и вся, то тогда она была бы как раз ненаучной.
Д. Матвеев: – О чем и речь. Или, скажем, теория относительности. Сам Эйнштейн указывал на то, что есть процедуры, позволяющие ее опровергать, и были попытки их применения, не приведшие к опровержению.
Д. Харламов: – Но ведь истина одна у Отца.
Д. Матвеев: – Вот с такой формулировкой как раз не все согласятся как с истинной. Важно, что модерн предполагает поиск истины. И он апеллирует к общечеловеческому, универсальному. Истинное в некотором смысле и значит универсальное, потому что это истина – это то, что общезначимо, что не зависит от точки зрения, от системы координат. А постмодерн, в отличие от модерна, как раз отрицает любую претензию чего бы то ни было на общезначимость.
А вот, к примеру, истинность и научность – не синонимы. Научность – это скорее корректность в стремлении к истине в своей области. Мы можем, согласно Попперу, указав на процедуру опровержения теории, показать, что она научна. Но истинна ли она? Ведь если принять критерий Поппера, мы приходим к тому, что всякая научная теория ждет своего опровержения. То есть придет время, когда накопятся факты, которые в эту теорию не будут укладываться.
Д. Харламов: – Но ведь истину нельзя опровергнуть.
Д. Матвеев: – Можно выразить надежду на то, что настоящую истину не захочется опровергать. Что такое – показать истинность чего-то? В соответствии с тем, что уже было сказано, это значит показать, что это значимо для всех. Если для тебя и для меня это значимо, то мы нашли нашу совместную локальную истину. А истина абсолютная – это то, что значимо и для меня, и для всех. Другое дело, показать эту значимость не составляет проблемы только в самых простых случаях. А в самых важных случаях вопрос истины всегда открытый.
Важно, что в модерне этот вопрос в принципе существует, а постмодернизм выражает недоверие к самим подобным вопросам. Но это не значит, что в ситуации постмодерна модерн умер. Современный немецкий философ Юрген Хабермас в этой ситуации постмодерна выражает надежду на то, что модерн – это «незавершённый проект», т.е. потенциал модерна, потенциал ценностей разума, ценности свободы не исчерпан, и за них еще можно бороться, живя в постмодерном мире, идеалом которого, с одной стороны, является та самая ризома, отсутствие всякого явного стержня.
А с другой стороны – то, на чем я остановился: такой мир оказывается удобным для того, чтобы жить своими локальными ценностями, для разного рода консерватизма. Это замечают и сами христиане. Например, католический автор Джеймс К.А. Смит пишет, что самый последовательный постмодернизм должен был бы прийти к строго конфессиональной церкви или радикальной ортодоксии. Его книга называется «Кто боится постмодернизма?» с подзаголовком «Берем Лиотара и Фуко в Церковь». По крайней мере, существуют консервативные мыслители, которые за идею непереводимости ухватываются. Другое дело, что в этом есть определенное противоречие с миссионерским императивом христианства. Но как-то в таких противоречиях все и существует.
Вот мы и подошли к теме существования христианства в этих условиях постмодерна, в условиях принципиального плюрализма и настойчивой проповеди того, чтобы люди друг друга не трогали и каждый «варилися» бы в собственном контексте. Конечно, на практике этого не получается. Такая взаимоизолированность оказывается утопией, люди остаются людьми, многим интересна истина и одновременно интересны другие, а значит, тема истины продолжает звучать как тема универсальности.
Но, все равно, в ситуации постмодерна неизбежно уходят на второй план такие богословы как Бультман и Тиллих с их акцентом на ценности разума и недопустимости «жертвы интеллектом» в вере. Ведь в чем пафос обоих, главная задача, которую они себе ставят: как можно, будучи верующим, такой жертвы не приносить. Как совместить веру и разум, чтобы не натыкаться на абсурд, чтобы вера не сталкивалась с разумом и его не «сшибала с ног»? Это же чистый пафос модерна. Разум как неотъемлемую часть человека недопустимо приносить в жертву, это саморазрушение человека. И Тиллих дает такое понимание веры, в котором она не сталкивается с разумом (как именно он это делает, мы увидели, читая «Динамику веры»). Все в религии, что противоречит разуму и стремится разрушить его структуру, Тиллих называет демоническим, т.е. по сути, противным Богу. В каком смысле нечто разрушает структуру разума? Обязывает верить в вещи, которые выглядят абсурдными. Скажем, в объективные чудеса как нарушение устойчивых законов мироздания. А, что такое эти законы как не условие существования разума? Если мы будем считать, что эти законы сплошь и рядом нарушаются, то мы придем к краху разума. Вот такой специфичный для модерна подход. Тиллих на этом принципе непротиворечия разуму строит всю свою богословскую систему. Но одновременно и на критической основе, то есть на признании ограниченности разума.
Даже такой иудейский мыслитель, как Мартин Бубер, в принципе, тоже озабочен тем же. Но начиная с 70-х такие вещи теряют популярность. В этот период более бурно развиваются достаточно маргинальные направления, берущие очень частные аспекты. Например, так называемая «теология освобождения» – направление, характерное для латиноамериканского католицизма. Это попытка христианского оправдания социальной справедливости и даже революции. Или феминистское богословие.
Но если брать что-то поинтереснее для нас, то это, например, Том Райт. Он епископ Англиканской церкви и, одновременно, известный и очень плодовитый библеист и богослов, который с одной стороны очень популярен, а с другой стороны сильно критикуем с разных сторон.

Николас Томас Райт (англ. Nicholas Thomas Wright; 1 декабря 1948, Морпет) — англиканский епископ и ведущий специалист по Новому Завету.
В чем подход Райта? Он исходит из того, что христианское богословие должно ориентироваться на свой исток – ранний иудео-христианский контекст. Все самое главное, что нужно, есть там. Христианская весть остается выразимой на этом языке, в терминах «народа Божьего», «нового Израиля», Завета, Мессии как сына Давидова и т.д.
Получается довольно любопытно. Райт, с одной стороны, не жалеет языка, чтобы бичевать постмодернистский мир. Но сам его подход вполне в русле постмодерна: христианство – это особый дискурс, не подлежащий переводу. Нужно не переводить на современный язык, а вернуться к изначальной иудеохристианской речи, к ее понятиям.
Собственно говоря, Барта на схожем основании также причисляют к провозвестникам постмодернистской парадигмы богословия: понимание новозаветной вести не связано с переводом, о чем мы также в свое время говорили.
Д. Харламов: – А кто и за что ругает Райта?
Д. Матвеев: – Либералы недовольны им как консерватором, консерваторы – как либералом. Он в эти рубрики не укладывается. Но он один из самых ярких и плодовитых авторов. Библеист, который подчиняет свои исследования своей богословской концепции и на ее основе пытается говорить о том, что Церковь должна делать в современных условиях.
Но линия модерна в богословии конца ХХ в. также сохраняется. Ее крупнейший, по крайней мере, лично для меня, представитель – католический теолог Ханс Кюнг.

Ханс Кюнг (нем. Hans Küng; род. 19 марта 1928, Зурзе) — швейцарский теолог, католический священник и писатель. С 1995 года — президент фонда «За глобальную этику» (нем. Stiftung Weltethos).
Расцвет его творчества приходится на 80-е, когда им была написана книга «Существует ли Бог?». Он интересен тем, что находит общую основу для дискуссии с, казалось бы, совершенно непримиримыми оппонентами христианства, такими, как Ханс Альберт, ученик Поппера. В его книге «Трактат о критическом разуме», направленном против догматизма, где есть специальная глава о религии, он пытается показать, что христианство безнадежно догматично. Альберт пишет, что даже Бультман, многое сделавший для того, чтобы показать христианство более либеральным и не чуждым свободного мышления, в конечном итоге озабочен тем, чтобы оградить базовые догмы христианства от критики. И в этом-де проявляется принципиальный иррационализм религиозной веры. Кюнг принимает этот вызов. Он стремится показать, что, на самом деле религиозная вера в своей основе более рациональна, чем ее отрицание. Даже при том, что, скажем, Бог не доказуем и не опровергаем, вера в Бога более согласуется с разумом, чем неверие.
И верить, и не верить – это риск, поскольку Бог недоказуем и неопровергаем одновременно. Но ситуация не на 100% симметричная. Потому что если я живу и стремлюсь жить, то самим фактом этого стремления жить оказываю основополагающее доверие реальности.
Т.е. если я полагаю для себя, что жить стоит, то это больше соответствует тому, что реальность, в которой стоит жить, не безосновна, не бессмысленна, не бесцельна, в конечном итоге не враждебна мне, а дружественна и т.д., чем всему противоположному. Т.е. больше соответствует признанию Бога, понимаемого как предельное основание, смысл, причину, цель реальности, ее «Альфу и Омегу». Иными словами, стремление жить – это неявный, может быть, даже и неосознанный выбор доверия реальности, выбор делом. И если человек осуществляет в эту же сторону и выбор словом (а вера в Бога, в созидательную основу бытия – предельно последовательное выражение этого), то он живет в этом смысле непротиворечиво, т.е. в согласии с разумностью. Соответственно, выбирающий жить, т.е. доверяющий реальности делом, но не доверяющий ей словом, т.е. отвергающий ее созидательную основу, вступает тем самым на противоречивую, т.е. менее разумную позицию.
Конечно, это никакое не доказательство бытия Бога: вера в Бога остается для Кюнга вопросом выбора в условиях радикальной рациональной неопределенности. Здесь лишь указание на позицию самого человека, которая может быть более или менее противоречивой с точки зрения разума. Как указывает Кюнг, из двух позиций – религиозной веры и атеизма – непротиворечивой и, тем самым, более обоснованной разумно, является первая, т.е. иными словами, верить в Бога более рационально, чем не верить.
Почему и эти рассуждения в ключе скорее модерна, чем постмодерна (даже и при том, что тому же Кюнгу принадлежит декларация необходимости разработки богословской парадигмы постмодерна)? Опять же, по причине этого акцентирования рациональности как добродетели. Кюнг обращается к человеку модерна, кантовской и попперовской традиции, каковым является Ханс Альберт; к человеку, ценностью для которого являются разум и критическое мышление. И это ценности и для самого Кюнга — без этой общей основы не получился бы и разговор (а он потом продолжался). И Кюнг, и Альберт оба не приемлют догматизма; Кюнг прямо утверждает, что и в христианстве возврат к «докритической» ситуации невозможен.
К сожалению, книга «Существует ли Бог?», эта энциклопедия вопроса о Боге в западной мысли, до сих пор не переведена на русский, переведена только некая адаптация Кюнгом некоторых мыслей книги.
Таким образом, модерн, понимаемый как философия ценности человеческого разума, свободы, интеллектуального поиска, продолжает существовать и в христианской мысли эпохи постмодерна, оставаясь «незавершённым проектом».
Top bar menu
+7 926 526 37 39info@nasledie-college.ru
Д.Б. Матвеев. Ситуация постмодерна. Основные направления христианской мысли конца XIX — начала ХХ вв. 1 часть
Вы здесь:
- Главная
- Богословие и философия
- Д.Б. Матвеев. Ситуация постмодерна. Основные…
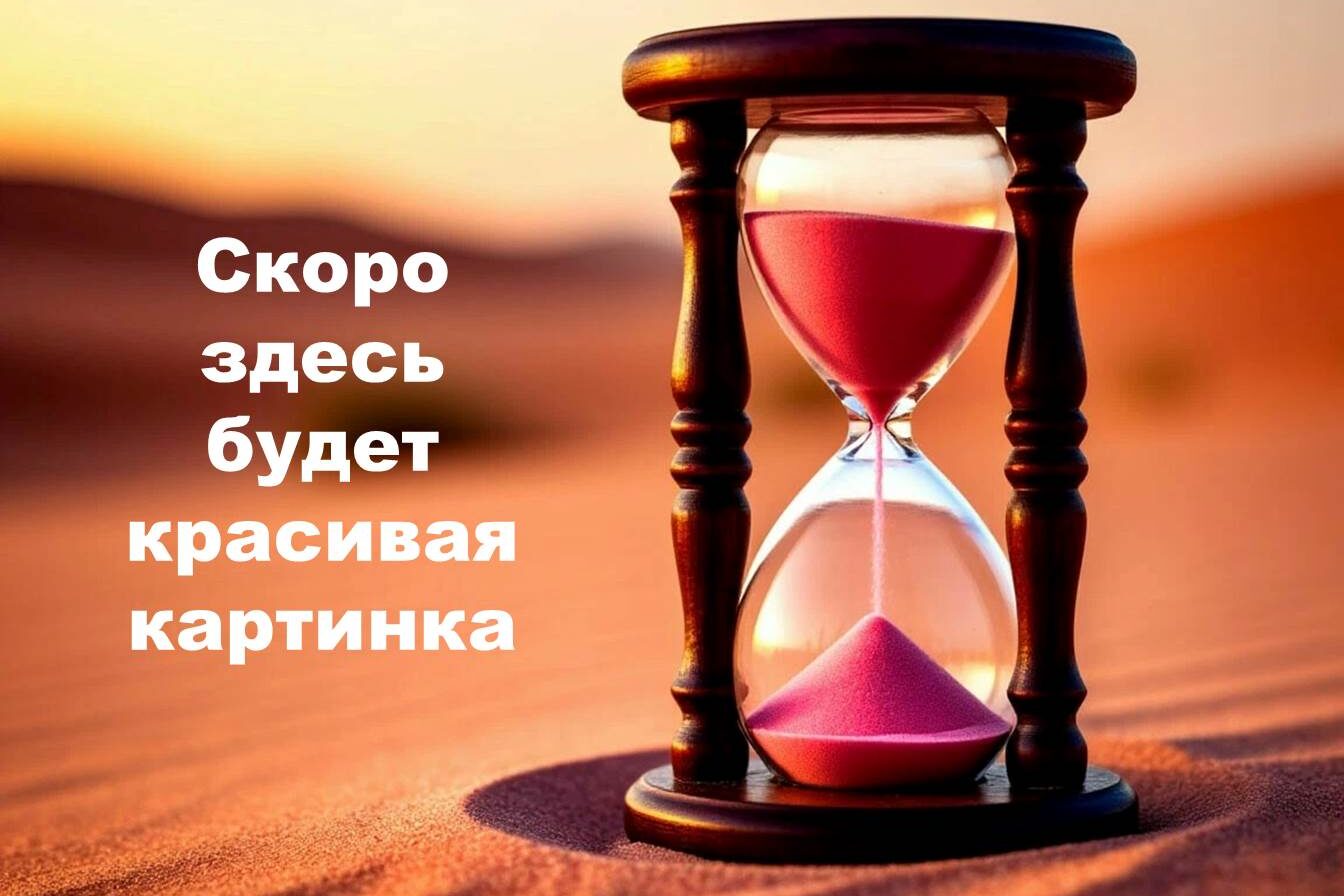

2 комментария