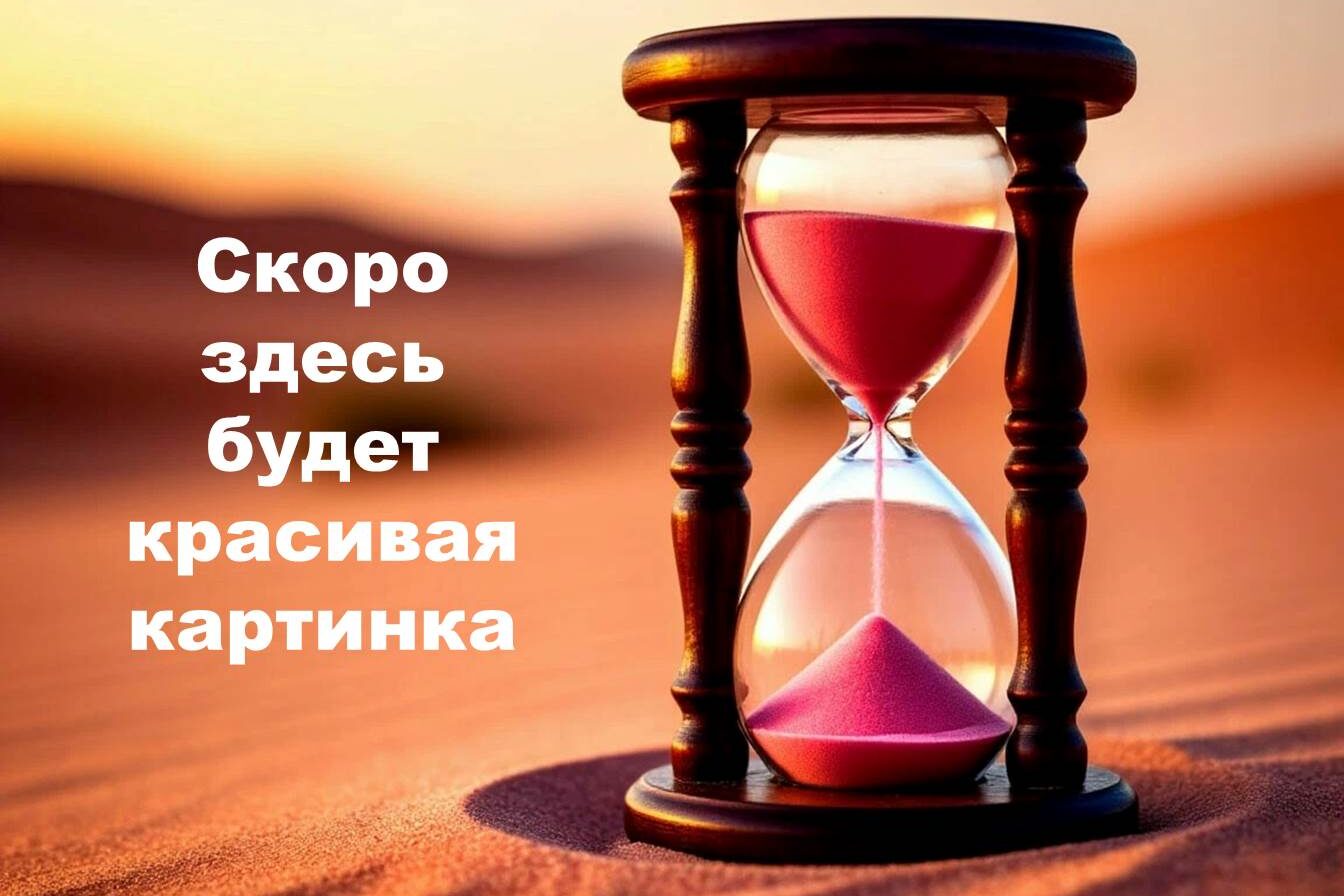Д.Б. Матвеев, к.т.н., магистр богословия. Курс Д.Б. Матвеева, как он сам говорит, «это не катехизис и не конфессиональная апологетика. Это просто попытка думать и приглашение думать. Вряд ли стоит ожидать от этого курса окончательных ответов, а вот если он поставит на новом уровне вопросы – это будет нашей общей удачей».
Лекция была прочитана в колледже «Наследие» 27.04.2017 (начало см. здесь). Текст лекции публикуется в редактированном виде.
(Иллюстрация: Павел Филонов. Белая картина. Из цикла «Ввод в мировой расцвет». х.м., 1928. ГРМ)
Д. Матвеев: – В прошлый раз мы попытались кратко охарактеризовать важные нам аспекты ситуации постмодерна и идеологии и философии постмодернизма, отражающих эту ситуацию. Постмодернизм провозглашает, что любая претензия на универсальность, любой «метанарратив» как разговор об универсальном и едином для всех, либо рождает террор, либо, по меньшей мере, является манипуляцией сознанием людей. Том Райт, текст которого мы читали, описывает постмодерн как время всеобщей подозрительности. Любой дискурс, претендующий на истинность для всех, подозревается в этой манипулятивности. Такая ситуация является благоприятной средой для всяческих замкнутых в себе проектов, не оглядывающихся на общие принципы. Юрген Хабермас, который, как мы отметили, провозглашает модерн неисчерпанным, незавершённым проектом, характеризует идеологию постмодернизма как «новый консерватизм».
Как бы то ни было, эта наша эпоха конца XX – начала XXI века действительно весьма плюралистична идейно. Соответственно, в христианской мысли тоже много разных течений. Мы говорили о линии модерна, в том числе о Тиллихе, мощно выразившем эпоху позднего модерна в богословии, и о Кюнге, фактически продолжающем эту линию уже в условиях постмодерна. Это попытка учесть в богословии ценность человеческого разума и его свободы разума (кантианское мужество пользоваться своим ограниченным умом, включающее отрицание догматизма). Теологам этого направления свойственно стремление показать, что и вне догматического мышления можно быть верующим человеком.
С другой стороны, возникают альтернативные попытки: стремление спасти догматическое мышление, в т.ч. на философской основе. Когда мы говорили о Канте и его критике догматизма как произвола по отношению к границам разума, т.е. как несоблюдения этих границ, мы говорили, что к этой критической установке Канта можно относиться трояко. Во-первых, можно просто проигнорировать ее, сказав, что богословие как основанное на откровении не зависит от результатов исследования человеческого разума и его границ. Как мы с вами должны помнить, эту позицию с силой выражал Барт. Во-вторых, можно принять кантианскую критическую установку как резонную и требующую своего учета и от богословия. Это то, что начато Шлейермахером и далее объединяет таких разных мыслителей (главным образом лютеранских) как Гарнак, Отто, Бультман, Тиллих, тексты которых мы с вами читали. К ним примыкает и католик Кюнг. Всех их можно назвать ведущими богословами либерально-критического направления. Либеральное оно, понятное дело, не в политическом смысле, а просто в том смысле, что если мы придерживаемся не догматического, а критического отношения к любой идее, то мы ее свободно обсуждаем. Эту свободу обсуждения всего, включая традиционно догматизированное, и обозначает слово «либеральное».
В-третьих, можно, не соглашаясь с кантианской констатацией границы или даже пропасти между мышлением и знанием в области метафизического, т.е. за горизонтом чувственного опыта, можно пытаться эту пропасть перескочить, т.е. философски (поскольку и Кант обосновывает свой взгляд философски) опровергнуть неустранимость указанной границы.
В богословии, прежде всего католическом, начиная со 2 половины ХХ в. и получив развитие в 70-е – 80-е годы прошлого века, возник проект такого рода: философское преодоление кантианского разрыва между мышлением и знанием. То, что это происходит в рамках католичества, не случайно: известный факт, что у католиков солидная традиция «философского пути» в богословии. Кто же из философов может помочь преодолеть Канта, преодолеть утверждаемое им: разрыв между вещью для нас (явлением) и вещью в себе (т.е. такой, какая она есть), необходимость чувственного опыта для познания и др. – все, из чего следует несостоятельность любого догматизма? Ведь Кант — это вызов для традиционного богословия: получается, что все, что мы, допустим, говорим о Боге, Который есть трансцендентная тайна, не является знанием. Это только мышление, некие наши догадки, модели и т.д. Те, кого это не устраивает, в принципе могут пытаться искать других философов, которые могли бы помочь обосновать возможность метафизики как познания чего-то вне чувственного опыта, данных, даваемых ощущениями. Таким философом принципиально мог быть Гегель, но для ортодоксально мыслящих людей он, видимо, слишком связан с модерном. Нашелся другой: Эдмунд Гуссерль. Это учитель Хайдеггера, его основные идеи высказаны им в начале ХХ в. Гуссерль вырабатывает свою теорию познания, альтернативную кантианской, более оптимистичную с точки зрения возможностей познания. Как и Гегель, он задается целью устранить кантианский зазор между чувственным опытом познания и самой вещью.
В. Стрелов: – То есть, у Гуссерля происходит познание на уровне феномена?
Д. Матвеев: – Мы это как раз сейчас обсудим. Да, Гуссерль считает, что не надо искать никакой вещи в себе за пределами феномена. Грубо говоря, только то, что нам дано в созерцании, в ощущении, и следует рассматривать, потому что любая модель, которая достраивает феномен до самой вещи, связана с какими-то нашими априорными представлениями, вложенными в нас воспитанием, культурой, частными особенностями опыта и др. Когда мы вступаем в процесс познания, у нас всегда есть некое предпонимание, мы его включаем в этот процесс, и это вносит в него искажения. В познании важно чистое созерцание. Этот подход называется феноменологическим, от слова «феномен» — явление. И Кант, и Гуссерль признают, что у нас в распоряжении только феномены и есть. Но если Кант делает из этого вывод о зазоре между феноменом и самой вещью, то Гуссерль говорит, что не надо полагать никакого зазора: то, что мы созерцаем, то и надо считать знанием. Для познания надо просто как бы выключить все остальные установки и предпонимания как «паразитные» и сосредоточиться непосредственно на самих переживаниях сознания, вызванных явлением. Что мы созерцаем, то и имеем. Он обосновывает возможность этого тем, что в наше сознание как бы встроено свойство быть не просто сознанием, но сознанием чего-то. Когда мы о чем-то думаем, что-то осознаем, то это всегда предметно. Это свойство Гуссерль называет интенциональностью. Здесь всё, что мы имеем, и абсурдно говорить о чем-то помимо его явленности сознанию. Это он называет «принципом всех принципов» и формулирует его, например, так: «Любое, дающее из самого первоисточника, созерцание есть законный источник познания. И все, что предлагается нам интуицией из самого первоисточника, можно признать таким, каким оно себя дает, но и только в тех рамках, в каких оно себя дает». И это всё: никаких моделей, никакого достраивания мира в сознании.
Д. Харламов: – Что такое интуиция?
Д. Матвеев: – Видимо, практически то же самое, что интенциональность, или, точнее, способность ухватывать содержание, данное в явлении.
Д. Харламов: – Это с волей как-то связано?
Д. Матвеев: – Да, пожалуй, ведь интенция познания — это волевой акт.
Д. Харламов: – А интуиция укладывается в волевой акт?
Д. Матвеев: – Во всяком случае, одной интуиции без волевых усилий для познания недостаточно. Человек, пытаясь что-то понять, уже обладает неким предпониманием, это все признают, и Кант, и Гуссерль (хотя у Канта прямо такого термина нет), но делают из этого разные выводы. Гуссерль считает необходимым волевой акт воздержания от суждений «поверх» воспринимаемого. Не надо вмешиваться умом в то, что видишь. Не надо накидывать на явление никакую «сетку» своего предпонимания.
Д. Харламов: – То есть, надо абстрагироваться от своего опыта?
Д. Матвеев: – В существенной мере – да. Надо абстрагироваться от предыдущего опыта, и то, что видишь, то и считать законным результатом познания. Чтобы было яснее: что такое феноменология в науке – например, в этнографии или в том же религиоведении? Мы приходим в незнакомую культуру как исследователи. Мы фиксируем тем или иным образом самосвидетельства носителей этой культуры, постигаем на основе этих данных ее внутреннюю логику и именно в этой внутренней логике ее и понимаем.
Для сравнения, вспомним, скажем, как Бультман понимает Новый Завет: совсем по-другому! Он понимает его с точки зрения своей логики, своей модели: Новый Завет нужно понимать экзистенциалистски и демифологизировать его, т.е. понять, что это мифологическая речь, выражающая экзистенциальный опыт. Потому что мы, современные люди, не поймем его иначе, чем из предпосылок нашего современного мышления, иначе для нас он просто не будет звучать, не будет работать. А богослов или библеист феноменологической школы мыслит противоположным образом. Допустим (не уверен, что это здесь до конца корректно, но, если уж соотноситься с этой системой координат), Том Райт обнаруживает подход, более близкий к феноменологическому, потому что, когда он пишет о Новом Завете и об историческом Иисусе, он не хочет вкладывать никаких смыслов, кроме смыслов раннего иудаизма и первохристианства, в нем родившегося. Он пытается понять их свидетельства из той логики, которая, на его взгляд, характерна именно для первоначальных свидетелей, для ранней церкви.
Какой подход лучше – для меня, кстати, большой вопрос. Оба имеют свои резоны. Скорее всего, лучше всего как-то их комбинировать. Лично мне кажется, что невозможно и без одного, и без другого.
Вернемся к богословию. Как применить в нем то, что провозглашает Гуссерль, чтобы реабилитировать в нем возможность познания? С середины ХХ в. этим занимался Бернард Лонерган, в конце века Жан-Люк Марион, оба католики и работали в Канаде (Марион живет и работает по сей день, ему 70 лет).

Бернард Джозеф Фрэнсис Лонерган (Lonergan, Bernard J.F.), 1904 — 1984, канадский католический теолог и философ, профессор, член ордена иезуитов, священник. Считается крупнейшим мыслителем 20-го века. Лонерган был удостоен многих научных наград, избран членом-корреспондентом Британской академии наук и отмечен высшим орденом своей родины — «Орденом Канады».
Лонерган – младший современник Тиллиха. Он весьма оригинальный эпистемолог, т.е. теоретик познания, но стоит на фундаменте, заложенном Гуссерлем. В отличие от Канта, Лонерган говорит, что основной источник познания находится в нас самих, в конечном итоге это не ощущения, вызванные внешней реальностью, а сам процесс понимания. Для Канта первичные данные – это эмпирические данные, данные чувств. В широком смысле это все то, что можно зафиксировать, в т.ч. и различными приборами, которые можно рассматривать как продолжение и усиление наших чувств. Т.е., все то, что на нас воздействует, а мы это воспринимаем. Грубо по-компьютерному говоря, к нам от реальности идет массив данных. И есть пассивная стадия познания – восприятие, а далее уже активная: мышление как обработка этих данных и создание картины соответствующего фрагмента реальности. Лонерган говорит, что, хотя без чувственных данных и нет познания, главные исходные данные для познания реальности не в них, а в самом процессе понимания, в устремлении к пониманию. Способность к познанию живет в нас еще до прихода всяких эмпирических данных. Это как раз похоже на гуссерлевскую интенциональность и вдохновлено этой идеей. Но у Лонергана все не совсем как у Гуссерля, он пытается идти дальше в анализе познавательных структур разума и найти в них основание для метафизического знания, которое Кант не признает. Лонерган считает важным анализировать сами акты сознания, в которых проявляется интенциональность. Этот анализ, по его мнению, показывает, что источник знания лежит не столько в данных ощущений, сколько в самом процессе познания. Он выделяет в познании акт, который называет «инсайт», буквально «взгляд внутрь», «проникновение», можно сказать, озарение. Лонерган полагает возможным инсайт как результат деятельности разума, позволяющий подняться, преодолеть горизонт эмпирически данного, познавать не только то, что дано в пределах этого горизонта. Тем самым, метафизика как знание оказывается возможна.
Почему же возможен сам инсайт, делающий возможной и метафизику? Дело, предельно упрощая, в следующем. Лонерган, с опорой на томистскую традицию, рассуждает так: если стремление человека к бытию неотделимо от стремления к знанию, то есть какая-то корреляция между структурой бытия и структурой мышления. Значит, уже в самом мышлении, а не только в «массиве информации», воспринимаемом чувствами», содержится знание о реальности. Ошибка Канта, по Лонергану, состояла в том, что он, в принципе идя в этом направлении, не пошел в нем достаточно далеко, а пошел на поводу у философов-эмпиристов вроде Юма и не увидел этой корреляции.
Но интересно, что Лонерган, похоже, не отвергает самой критической установки, характерной для Канта. Для него познание также неотделимо от исследования процесса мышления. Но если структуры мышления имеют отношение к реальности, то исследование принципов мышления открывает возможность верификации, т.е. критической проверки метафизики, включая метафизику Библии и церковной догмы. В то время как для Канта и кантианцев метафизика – это область принципиально неверифицируемого, поскольку проверить можно лишь при наличии эмпирических данных. Но принципиальная разница только в этом, а необходимость критики как учета принципов и ограничений, присущих разуму, важна и для Лонергана. Мы с вами можем теперь отметить это как реверанс в сторону модерна, но одновременно это и реверанс в сторону ортодоксии. Получается, что они друг другу не противоречат, и церковная догма совсем не фатально предполагает догматизм как отказ от мышления по достижении каких-то «красных флажков».
Но и разногласия Лонергана с модерном заметны. Для сравнения, Тиллих как богослов модерна не может признать содержание догматов знанием. Для него их значение в том, что они суть символическое выражение глубинного опыта человека, живущего религиозной верой, во вполне обусловленных (психологически, культурно и т.п.) категориях мифа и философии. Мы не можем понимать эти постулаты буквально, но можем думать, на что это все указывает. Допустим, история грехопадения указывает не на конкретное событие на временной оси, а на наличное состояние человека. Миф о событии – лишь форма этого указания. Ведь репортаж с места событий здесь невозможен, как и вообще нет оснований понимать это как некую точку во времени, говорит Тиллих, но мы можем почувствовать всем нашим нутром, на что, на какое содержание этого нутра указывает своими средствами этот миф, и тем самым ощутить его значимость для нас. Вдобавок, мифологичность формы как нельзя более соответствует тому, что, в конечном итоге, происхождение нашего трагичного состояния, обозначаемого как «падшее», остается тайной.
А Лонерган, по сути, стремится показать, что в области метафизики нам доступно нечто большее, чем ее символический смысл. Наш познавательный процесс по своей структуре настолько соответствует структуре реальности, что возможен инсайт в ее метафизические основы, если только мы будем находиться в правильном состоянии.
Д. Харламов: – А он дает характеристику этого правильного состояния?
Д. Матвеев: – Это состояние чуткости, внимания к собственному мышлению, правильная методология мышления. Здесь, конечно, и аскеза. Лонерган где-то говорит, что аскеза – потребность мышления. Если речь о серьезном мышлении, то это, в общем-то, резонно.
В. Стрелов: – Получается, что Тиллих говорит: максимум, что у нас есть – это язык мифа. А Лонерган говорит, что какое-то более прямое познание все же возможно. Но дальше все равно встает вопрос: а как ты это познание выражаешь? Встает вопрос о языке выражения этого познания, то есть мы опять упираемся в то, о чем говорит Тиллих. Если наше познание состоит из того, что мы читаем слова других, тогда Лонерган действительно открывает другой источник познания через состояние озарения. А Тиллих, наверное, тоже предполагал, что возможно познание и через откровение.
Д. Матвеев: – Для Тиллиха откровение – это не вербальная информация, а событие, которое потрясло, «выбило» из обыденности и явило присутствие последней тайны и основы бытия. В своем исходном виде это не идея, а некое переживание.
В. Стрелов: – А, вот странно. Для пророков откровение – это не просто идея, а конкретные слова Божии.
Д. Матвеев: – А для Тиллиха, который, кстати, уделяет большое внимание библейской пророческой традиции, эти слова, вообще всё, что говорится – уже человеческое следствие исходного переживания, его выражение, осмысление.
Д. Харламов: – Когда человек пытается достичь созерцания, он куда-то себя направляет, совершает некое действие, то есть преследует некую цель. И тогда случается или не случается откровение.
Д. Матвеев: – На это есть разные взгляды. Философ, как его мыслит Платон, действует именно так, как говорите Вы: очищает себя для созерцания, которое возможно только в определенном состоянии. В Библии откровение спонтанно, если смотреть с человеческой стороны: кому дается, тому дается. В христианстве выработались разные точки зрения. Есть синтез одного и другого, по принципу синергии. С одной стороны – теофания, Бог Себя открывает, с другой стороны, человек тоже должен совершать усилия. Есть ли в этом резоны? Во всяком случае, об откровении не было бы вообще никакого разговора без воспринимающей стороны, т.е. человека. А если человека что-то подобное коснулось, то дальше он уже равнодушным и молчащим быть не может. Правда, Августин и мыслящие в его духе люди говорят, что Божье действие для человека непреодолимо, поэтому о синергии, т.е. о роли человека, здесь речи быть не может. Например, Лютер тоже к этому склонялся. Тиллих говорит еще другое: в человеке есть некая предрасположенность к восприятию откровения: это то, что он назвал «предельной заботой». В человеке живет озабоченность собственным бытием перед лицом смерти как фатальной угрозы небытия. Эта угроза его шокирует. Более того, само переживание того, что «я есть», и вообще «что-то есть», сам вопрос, почему «есть нечто, а не ничто», – это тоже вещи шокирующие, потому что бытие – это предельная тайна, которая касается меня самого. И когда с человеком, живущим на фоне шока от этих вопросов, происходит что-то необыденное, он уже настроен на «волну» восприятия этого как откровения этой тайны.
В. Стрелов: – Проблема в том, что, когда человек ориентирован на шок от того, что есть небытие, для кого-то это будет поводом для выхода, а для кого-то это будет поводом, к сожалению, для отчаяния. И раз мне этого напрямую никто не объясняет, то зачем мне такой Бог, который постоянно скрывается, я его увидеть не могу, а то, что я вижу, это все на грани таинственного.
Д. Матвеев: – Да, верно, пути из этого кризиса ведут в разные стороны. Тиллих это осознает, он пишет о трех возможных выходах: отчаянии, скепсисе, поиске. Возможно, так называемое Осевое время было временем ответа по типу поиска на кризис религии в мировом масштабе. Это период где-то вокруг V в. до Р.Х. (плюс-минус 3 века)., когда возникают буддизм, конфуцианство, зороастризм, греческая философия, а в рамках иудаизма – пророческое движение, без которого и событие Христа вряд ли было бы воспринято так, как было воспринято.
Д. Харламов: – А сейчас тоже кризис?
Д. Матвеев: – Кризис в той или иной степени всегда. Какого масштаба нынешний кризис относительно других – сказать не берусь, большое видится на расстоянии. Конечно, более компетентные труды про наше время напишут в будущем. Конечно, это не отменяет того, что мы можем и должны осмыслять собственное время, выдвигать концепции.
В. Стрелов: – Является ли постмодерн кризисом?
Д. Матвеев: – Конечно, является, раз предыдущая парадигма перестала удовлетворять. Хотя на это есть разные точки зрения. Так получается, что мы периодически упоминаем Хабермаса с его взглядом на модерн как «незавершённый проект», возможности которого не исчерпаны. Но чтобы их реализовать, нужно кое-что учесть и сделать поправки. Например, когда мы рассматриваем проблему истины, учесть то, что разум человека не изолирован. Мы не можем больше говорить о разуме вне ситуации коммуникации человека с другими. Наш разум коммуникативен, его общие для всех нас принципы (законы логики и др.) обуславливают возможность нашего общения. В частности, когда мы выдвигаем какую-то идею, это предполагает ситуацию, когда она будет воспринята другими, подвергнута рассмотрению, обсуждению, критике, в конечном итоге – приятию или неприятию. И то, что принято всеми членами некоего сообщества, можно считать истиной в рамках этого сообщества. Таким образом, практически истина существует в обществе как консенсус. Истина это то, с чем мы все вместе согласились, что каждый из нас признал своим. Истина под именем консенсуса, т.е. истина не навязываемая — это ответ постмодернизму, боящемуся самой постановки вопроса об истине.
Понятно, что для христиан это недостаточная постановка вопроса, мы бы добавили, что истину можно мыслить не только в таком прагматическом, но и в онтологическом смысле, то есть в надежде на то, что когда-то выяснится, что наши мысли и поступки не просто совпадают с мыслями окружающих, они соответствуют самой реальности, как она есть. Но это надежда онтологическая: реальность явится как она есть только в чаемом нами эсхатоне, пока же она «вещь в себе». По крайней мере, если стоять на позициях веры и одновременно на критической кантианской позиции в отношении разума, то это так.
Лонерган, как представляется, пытается преодолеть кантовский зазор между «вещью в себе» и явлением, одновременно сохранив критическую установку. Пойдем дальше. Уже в 70е — 80-е годы ХХ в. другой канадский католический богослов – Жан-Люк Марион – пытается перескочить этот же зазор, в еще большей степени опираясь на Гуссерля. Если Лонерган вдохновляется гуссерлианской гипотезой интенциональности, то Марион впрямую ссылается на процитированный ранее «принцип всех принципов»: наше «то-как-мы-видим» — законный источник познания.

JeanLuc_Marion
Жан-Люк Марион (фр. Jean-Luc Marion, 6 июля 1946, Мёдон, О-де-Сен) — французский философ феноменологического направления, католический богослов. Избран во Французскую академию в 2008 году на место кардинала Жана-Мари Люстиже.
Марион признает наличие кризиса метафизики. И провозглашает, что метафизику действительно необходимо преодолеть. Т.е. преодолеть сам дуализм мыслимой реальности, ее деление на физику и метафизику, посю- и потустороннее, имманентное и трансцендентное, «поверхность» и «основание» — как угодно. С этой точки зрения метафизичен как традиционный христианский, так и кантовский подход (последний ведь тоже разделяет видимое и реальное). Марион предлагает отказаться и от самой идеи Бога как трансцендентного, запредельного. Он говорит, что больше не может мыслить Бога как такого, Которого «не видел никто никогда». А как тогда мыслить Бога? Тут Мариону и помогает феноменологический принцип Гуссерля. Все что мы видим, воспринимаем, весь мир феноменов и есть сама реальность. И Марион призывает рассматривать это как дар. Значит, должен быть и Даритель. Но Он — не «за», не «над» всем этим, не «на глубине». Он — во всем этом. Бог — это абсолютный дар, Он не «озабочен» тем, чтобы Его видели. Он дарит Себя во всех феноменах, как бы растворяет Себя в них без остатка. Потому мы Его и не видим, что Он полностью Себя отдает.
В. Стрелов: – Интересно, что Григорий Палама различает в Боге сущность и энергию. А здесь как бы сущности нет, а есть только одна энергия, которая и переживается.
Д. Матвеев: – Спасибо, очень интересная параллель. Действительно, похоже, она тут есть. Тогда был спор между паламистами и томистами (последние среди греков тогда уже были: Акиндин и др.). Томисты критиковали паламистов так: о сущности Бога вообще невозможно говорить именно потому, что Бог – это чистая энергия, т.е. чистое действие. Это тезис самого Фомы. И, опираясь на него, оппоненты паламизма говорили: разделение между сущностью и энергией — неправомерное, неподлинное, оно не имеет основания, потому что в Боге неправомерно мыслить такое разделение.
В. Стрелов: — Обычно эти споры передаются совсем не так, как ты сейчас предлагаешь понимать, что Бог — это чистое действие, и когда мы видим это чистое действие, мы самого Бога переживаем. А, скорее, наоборот, передают так: есть соборный томос, говорящий о том, что те, кто считает, что Бога нельзя видеть, неправы, потому что мы видим Его по его акциденциям, а не по сущности, по Его действиям, через Его откровение в природе, хотя не можем Его видеть непосредственно. У меня всегда было ощущение, что здесь присутствует какой-то гносеологический пессимизм.
Д. Матвеев: – А томисты не отрицают, что Бог познается в действии, хотя и нельзя видеть Бога. Они претендуют только на то, что неправомерно делить Бога на сущность и энергию.
В. Стрелов: – Но тогда получается, что Бог непознаваем.
Д. Матвеев: – Он и у паламистов по сущности непознаваем. Возражения томистов, как я понимаю, скорее даже не гносеологические, а чисто теологические. Невозможно различать сущность и энергию в Том, в Ком сущность совпадает с существованием. Что это означает? Что в Боге нет ничего нереализованного, все потенции беспрепятственно реализуются. Это и значит «чистое действие».
В. Стрелов: – А они нас как-то достигают, эти потенции?
Д. Матвеев: – Да. Во-первых, через сверхъестественное откровение. Например, сотворенность мира, согласно Фоме, открывается только сверхъестественным образом. То, что мир сотворен, невозможно понять просто через рассмотрение творения, потому что останется непонятно, сотворен ли мир или возник сам собой. При этом, как ни парадоксально это покажется, то, что Бог есть – это уже второй пункт, естественное откровение, потому что есть доказательства бытия Бога, доступные человеческому разуму, т.е. рассмотрению доступного нам. Правда, Кант потом эти доказательства раскритиковал. Но важно, что для Фомы есть два «канала» богопознания: естественный и сверхъестественный. Или можно сказать, два встречных движения: от Бога к человеку и от человека к Богу.
В. Стрелов: – Получается, что Марион говорит о том, что, если у томистов Бог непознаваем, то категория дара позволяет говорить, что Он познаваем. Тогда он в каком-то смысле, возвращается к Паламе, но вот эту среднюю позицию между сущностью и энергией он переводит на сторону энергии.
Д. Матвеев: – Вообще-то Марион категорически против «сущности», потому что «сущность» — это нечто трансцендентное, то самое основание, стоящее за феноменами, которое он предлагает перестать мыслить; в конечном итоге, идол вместо Бога.
В. Стрелов: – Но тогда вот какая проблема: я со своим ограниченным разумом имею только часть этого дара. Это значит, что я не могу говорить о Боге вообще и иметь о Нем хоть какое-то представление?
Д. Матвеев: – Что значит говорить о Боге вообще? Естественно, каждому конкретному человеку дана в восприятие только часть, поскольку человек ограничен.
В. Стрелов: – Тогда представим, что у нас есть слон, один увидел ногу, другой – хобот, третий – хвост. Каждый воспринял свое, но слон – это нечто другое, чем то, о чем они говорят.
Д. Матвеев: – Марион, наверное, сказал бы, что это не нечто другое, а и то, и другое, и третье – и хвост, и хобот, и уши и т.д. А «нечто другое» – это и может оказаться та самая «вещь в себе», которую он не признает.
Слушатель: – То, что предлагает Марион, похоже на пантеизм?
Д. Матвеев: – Пантеизм – это когда есть только некая единая субстанция, и больше ничего, а все явленное — различные ее эманации, истечения. Бог, растворенный в даре – это не субстанция. Марион, думаю, сильно возражал бы против того, чтобы мыслить Бога как субстанцию, как любую сущность: она будет лишь идолом Бога. Пожалуй, я бы даже сказал, что его ход мыслей прямо противоположен пантеизму: Бог настолько инаков, что его невозможно мыслить как сущность. В этом смысле показательно название одной из главных работ Мариона: «Идол и дистанция». Когда не соблюдается дистанция, подобающая Богу, мы получаем вместо Него того самого идола. «Растворение» Бога в даре творения возникает потому, что Бог абсолютен, и дарение Его также абсолютно.
У Мариона много последователей, в том числе и среди православных. Это прежде всего греческий богослов Мануссакис. Близких взглядов придерживается еще один человек, американец с совсем православным таким именем – Дэвид Бентли Харт. Он написал книгу «Красота бесконечного», которая переведена на русский язык и издана ББИ. Харт критикует там Тиллиха и его идею Бога как глубины бытия. В противовес он декларирует, что все самое главное происходит на поверхности, т.е. в феноменах.
В. Стрелов: – А что имеет в виду Павел, когда говорит, что никто не знает, что в человеке, кроме Духа Божьего и духа человеческого, живущего в нем? Павел, по крайней мере, вводит различение между внешним, какими мы кажемся другим, и тем, кем мы на самом деле являемся. Это мы знаем даже сами о себе, поэтому мы можем судить. Вот, мы что-то видим из мира божественного, но мы все равно что-то свое привносим: как бы мы ни хотели оставаться в чисто «феноменологическом» подходе, мы все равно будем интерпретировать – «Бог это допустил, значит, у Него был какой-то мотив». Но таким образом мы остаемся на уровне внешнего, а по-настоящему Бога не знаем.
Д. Матвеев: – Мне, разумеется, весьма рискованно говорить за Мариона, что бы он на это сказал, но все же попробую помыслить в его логике. Может быть, если бы мы обладали абсолютной интенциональностью, то есть эта способность реализовалась бы у нас на сто процентов, мы бы в самом созерцании прозревали. Но поскольку она у нас реализована не на все сто процентов, у нас остается зазор.
В. Стрелов: – То есть дело не в объекте, а проблема в нас как в познающем субъекте.
Д. Матвеев: – Да, в субъекте. Богом нам уже все даровано, в принципе. На мой взгляд, в логике Мариона это так. Кстати, он тоже пишет об аскезе как условии созерцания.
Но как же все-таки этот «феноменологический поворот» помогает спасти догматическое содержание? Ведь это не только апологетический ход: закономерно, что мы не видим Бога – это Он так, без остатка, дарует Себя в творении. Здесь еще и другой ход: если все даровано нам в феноменах, то и церковная традиция — не исключение, ее также нужно принимать по феноменологическому принципу, «как есть», не конструируя никаких объяснений, подстраивающихся под ту или иную гносеологию. Скажем, есть тринитарная идея Бога, и не надо в ней искать никакого символического смысла, она должна быть принята как данность. Так увидели. Марион, кажется, даже не склонен обосновывать тринитарный догмат: по крайней мере, в книге «Идол и дистанция» «тринитарная перспектива» богословия принимается им как неоспоримая данность, без обсуждения. Во всяком случае, так прочитывается мной. Хотя лично мне непонятно, каким образом Троица перестает у него быть метафизической идеей.
Вообще здесь очень много вопросов. Например, законность созерцания как источника познания вроде бы призвана оправдать догматический подход. Но созерцаем-то мы все равно феномены, а догматическое содержание, та же Троица, выходит за содержание феноменов. Или следует верить любому свидетельству о созерцании, как будто речь идет о феномене? Это непонятно.
Мариона много критикуют. Собственно, критике подвергается и сам Гуссерль, его понимание интенциональности и опровержение «вещи в себе» на этой основе. Но останавливаться на этом у нас нет времени, мы только намечаем некоторые основные направления современной богословской мысли. Намечу только еще последний вопрос: не слишком ли оптимистично? Разве феноменологическая «поверхность» реальности сводится к дару? Разве она не более проблемна, амбивалентна для нас?
В заключение упомянем еще одно популярное направление в современном богословии. Мне трудно сказать, что оно делает в большей степени с модерном: игнорирует или пытается преодолеть. Это так называемая «радикальная ортодоксия». Самое известное имя, связанное с этим направлением — Джон Милбанк. В некоторых важных вещах солидаризируется с ним и Чарльз Тейлор, автор достаточно свежего фундаментального исследования феномена секулярности, изданного на русском языке тем же ББИ («Секулярный век», 2016 г.).

Аласдейр Джон Милбанк (Alasdair John Milbank) (родился в 1952 году) является англиканским христианским богословом. Профессор, преподавал религию, политику и этику в Ноттингемском университете, где он также руководит Центром теологии и философии. Милбанк ранее преподавал в Университете Вирджинии, а до этого в Кембриджском университете и Университете Ланкастера. Он также является председателем попечителей аналитического центра ResPublica.
«Радикальная ортодоксия» исходит из той идеи, что на каком-то этапе истории в христианской богословской мысли возникли некие неверные решения, и в результате «что-то пошло не так», привело к секуляризации, распространению атеизма и другим негативным последствиям. До Аквината включительно все было еще более-менее, а вот Дунс Скот и Уильям Оккам обнаруживают явную девиацию. Состоит она в решительном отказе от идеи универсалий. О споре об универсалиях в зрелой схоластике мы говорили в прошлом семестре, его суть в вопросе, что существует реально: общие понятия или отдельные вещи. Если вы помните, мы называли до пяти возможных решений этого вопроса. Платоническую крайность (неподлинность существования отдельных вещей по сравнению с образцами-идеями) в христианском мире разделять перестали: все-таки это совсем против библейского мироощущения. И остался вопрос о реальности универсалий наряду с вещами, таких как сущность или природа. Допустим, «человек» вообще. Есть ли за ним реальное бытие? Это некий промежуточный источник реального бытия конкретных людей (поскольку первоисточник – Бог), или это просто концепт ума? Или это вообще ни к чему не имеет отношения?
В. Стрелов: – Я думаю, это концепт ума.
Д. Матвеев: – Я, кстати, тоже склоняюсь к этому. В XII в. эту идею выдвигал Абеляр. А уже в XIV в. Оккам говорил, что нельзя сказать даже так. Он утверждал, что мир настолько вероятностен и случаен с нашей позиции, что все наши концепты неустойчивы. Бог творит каждую вещь непосредственно, отдельно, «штучно». То, что мы объединяем вещи в какие-то виды и т.д., это концепт ума, но такие концепты не соответствуют устойчивым закономерностям. Кстати, этой идеей случайности мира Оккам чем-то созвучен с исламским богословием. Там тоже сильна та идея, что Бог не создает непреложных законов, которые связали бы Его. Если бы Он захотел, он бы создал другой мир, даже с другой этикой.
В. Стрелов: – А как тогда объяснить 1 главу Книги Бытия, когда говорится, что птицы, рыбы и т.д. творятся «по роду их»? Если есть роды – это как минимум концепт.
Д. Матвеев: – Это интересный вопрос. Я не специалист по Оккаму, тем более, по его библейской экзегезе. Но думаю, Оккам нашел способ, как это трактовать с его позиций. Максимум, что помню навскидку — он обосновывал законность употребления общих терминов в языке, несмотря на несуществование универсалий. Подробнее можно справиться в литературе.
Но то, что нам важно сейчас – это отрицание Оккамом универсалий как источников бытия вещей и этом смысле посредников между Богом и миром. Милбанк и другие «радикальные ортодоксы» утверждают, что с этого и пошел перекос: идея трансцендентности Бога слишком радикализировалась, в сознании возникла пропасть между Богом и миром, соблазн мыслить мир автономным от Бога, соблазн индивидуализма, ведущего к дезинтеграции мира и Церкви и т.д. По этому пути, указывают они, пошла Реформация. Действительно, Лютер как богослов сформирован как раз в школе номиналистов, идущей от Оккама. И он считал, что Бог имеет отношение только с каждым человеком, а об отношении Бога с Церковью уже нет смысла и говорить. А от автономии мира и индивидуализма уже один шаг до секуляризации, просвещенческого деизма, говорящего, что Бог, создав мир, больше не проявляется в нем и не участвует в его жизни, и от деизма уже к атеизму и его победному шествию. Т.е. во всем этом виноваты неверные богословские концепции. Здесь, кстати, еще проводится та характерная для «радикальной ортодоксии» мысль, что теология органичным образом является главенствующей среди областей знания, и от нее, в конечном итоге, все в главном и зависит.
Выходом, по мысли Милбанка и др., является возврат если не прямо к платонизму, то, по крайней мере, в его сторону. Оккам своей злополучной «бритвой» отсек «ненужные» сущности, а нам, теологам, говорят «радикальные ортодоксы», надо их опять привить. Сегодняшний мир, по выражению Макса Вебера, расколдован. Это и значит, что в нем не мыслятся никакие действующие, но эмпирически неощутимые сущности: универсалии, духи и т.д. Только опытно воспринимаемые вещи и человеческое сознание. Сегодняшняя задача богословия состоит в том, чтобы в этом смысле «заколдовать» мир обратно, опять населить его идеями, сущностями, формами и так далее.
Именно этому симпатизирует упомянутый мной исследователь процесса секуляризации Чарльз Тейлор. Но интересно и показательно, что он же в своем исследовании показывает, что «расколдованному» миру соответствует совсем другой тип сознания, чем «заколдованному». Это серьезные антропологические изменения, которые, заметим также, произошли не по воле каких-то интеллектуалов, а в результате спонтанного исторического процесса. В этом смысле я бы адресовал вопрос разделяющим эти идеи богословам, насколько подъемную задачу они себе ставят. Как, если не изменяет память, пела когда-то наша «примадонна», «фарш невозможно провернуть назад» J.
Безусловно, мы коснулись только отдельных направлений богословия второй половины XX в., в реальности эта палитра намного разнообразнее, от радикально консервативных до еще более радикально новаторских. Назову такие интригующие (хотя не исключено, что кого-то и пугающие) названия направлений, как «теология секуляризации», «теология смерти Бога» и даже «нетеистическая теология». Надеюсь все же, что в итоге никого не напугал, а стимулировал хотя бы интерес к происходящему сегодня в мире христианской мысли.
(В приложении — англоязычная книга Милларда Эриксона, автора известного учебника по систематическому протестантскому богословию. Но предметом данной книги является сам феномен постмодерна, ключевые идеи и фигуры).
Top bar menu
+7 926 526 37 39info@nasledie-college.ru
Д.Б. Матвеев. Ситуация постмодерна. Основные направления христианской мысли ХХ вв. 2 часть
Вы здесь:
- Главная
- Богословие и философия
- Д.Б. Матвеев. Ситуация постмодерна. Основные…