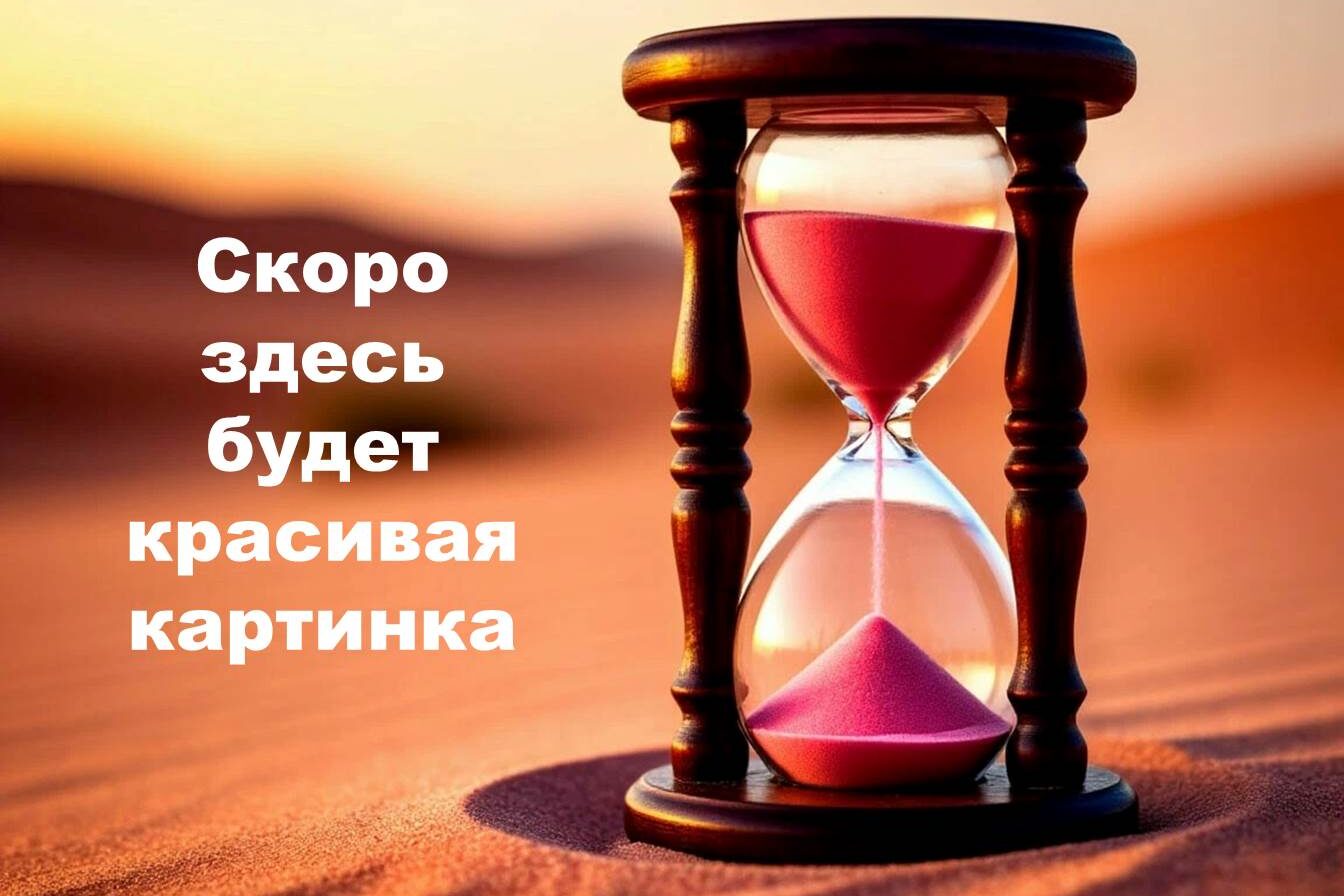Автор: Свящ. Владимир Зелинский
«Есть только один Христос: Христа истории необходимо соединить с Христом евхаристической чаши», — говорит патриарх Афинагор в книге Оливье Клемана[I]. Слова эти несут в себе невысказанную интуицию или мысль, которая вот-вот должна родиться, но еще не нашла для себя подходящей матери, т.е. той богословской традиции, в лоне которой она могла бы интеллектульно сформироваться и найти свое место в православной традиции. Что может скрываться за таким пожеланием или призывом? Попытка расслышать за шумом времени эхо или безмолвие Слова Божия? Но что вообще мы знаем о «Христе истории», о Боге-Слове, однажды вошедшем во время, покорившемся ему, распятом в нем, и в нем же воскресшем? Христос открывается не просто в какой-то «реке времен», но говорит с нами из Предания, которое определяет или рационально описывает тайну Его личности. И воплотился от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Соединил в Себе две природы нераздельно и неслиянно и две воли, Бога и Человека. Лишь Христос, живущий в Предании, есть истинный Бог наш, раскрывший неопределимое Свое бытие устами Соборов и святоотеческого богословия, служением таинств и течением умной молитвы, гармонией обрядов и алгеброй канонов, «изволившихся Духу Святому и нам» в процессе внутреннего строительства Церкви.
Ведает ли Церковь, какого-то иного Христа, Которого можно встретить за пределами священной истории, изваянной и застывшей в ее священной памяти? Возможно, что даже сам вопрос такого рода может показаться ей догматически незаконным. С предельной ясностью один ответ на него был дан одним выдающимся исповедником веры прошлого века, озаглавившим им свою книгу: «Христианства нет без Церкви». При этом подразумевалось, что Церковь была, есть, остается только одна. Где нет Церкви, нет и Христа. Бог за пределами истинного исповедания Бога — обольщение, верующие в Него — жертвы ереси или прелести.
Противоположный ответ в самой емкой его форме можно найти, скажем, у Гете, мыслителя, как мы знаем, весьма далекого от Церкви в нашем ее понимании. «Все преходящее, — сказал Гете, — есть притча или метафора Бога в мире». «AllesVerganglicheistnureinGleichnis«. Если все в мире метафора Слова Божия, то и сама Церковь — одна из множества притч. В этом случае вопрос об истине существенно видоизменяется, если не снимается вовсе, ибо всякая реальность — притча о Боге и потому может нести какую-то свою долю истины. Большинство из нас волей или неволей оказывается в клещах этой логики: или-или. Логика требует: или мы остаемся на скалистом берегу твердого исповедания со всеми его толкованиями, возникшими за последнее тысячелетие, ставшими законом и «правилом веры», и сбрасываем с его утесов все, что хоть в малейшей степени правилом не освящено, или же пристаем к другому, размытому и вязкому берегу, где воцарилось анонимное христианство хороших и добрых людей, которое проявляет себя повсюду, и в Церкви и за ее оградой, и за оградой, увы, даже явно больше. Многие из нас плавают где-то посередине между двумя этими берегами, не решаясь зацепиться и закрепиться ни на том, на котором высится церковное Предание, отличающееся цельностью и отторгающее от себя все инородное, ни приблизиться к другому, где течет «преходящее», но где люди, даже не зная Бога, иногда живут, повинуясь закону, начертанному где-то в сердце, иной раз даже приносят тому неписаному закону даже и жизни свои. Мы хотим хранить и держать Предание, ибо именно через него и в нем принимаем таинства, но его строгая монолитная правда внушает нам устами другого великого подвижника и учителя Русской Церкви, что Франциск Ассизский, например, не то, что не святой, а просто одержимый и сумасшедший, взомнивший о себе нивесть что. Многие сегодня написали на своих знаменах именно такой приговор и даже расширили его на всяких филантропов и розовых христиан, вроде Терезы Калькуттской или брата Роже из Тезе, впрочем, за таковыми знаменами скрываются чаще всего лишь весьма кислые и малосъедобные плоды их этно-державно окрашенного благочестия.
И все же есть только один Христос, мы узнаем Его в Церкви, которую исповедуем единственно святой, соборной и апостольской. Он есть Слово Божие, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Начало и по сей день бытийствует, хотя часто оказывается и вдали от церковных стен. Тот, кто не слеп по своим строго принципиальным соображениям, не может не искать Его повсюду и не узнавать Его лик. Не только малое сердце наше, но и текущее время, угнездившееся в этом сердце, независимо от наших интуиций или встреч, ставит все тот же вопрос: каков смысл, не какой-то всеобщий и отвлеченный, но смысл, открываемый в Боге истории, рассказывающей притчи обо всем преходящем и проходящем в мире и в нас? Конечно же, не мы первые задаем подобный вопрос. И хотя о. Георгий Флоровский утверждает, что христианство — это религия историков, классический ответ о смысле истории, формулируемый историей священной, будет звучать несколько иначе. В Церкви существует лишь триединый опыт соприкосновения со временем; в одном случае речь идет о святости живущих в истории людей (мученичестве, подвижничестве, подвиге святых воинов, прозорливых жен, благочестивых царей); в другом — о сложившейся некогда теории о симфонии Церкви и империи, в третьем — об искусстве создания и развития образа (иконы, храма, быта). Все эти три вида опыта суть подлинные, неискаженные притчи о пребывании славы Божией в мире: ибо через святость, и прежде всего, через мученичество мы соприкасаемся с Христом распинаемым, в священной империи раскрывается образ Спаса-Вседержителя, в церковном искусстве с нами говорит Творец красоты. Всем этим трем опытам мы призваны подражать, верно им следовать, ибо они входят в сокровищницу освященной и непреходящей памяти, которая сплетается с самим существованием Церкви.
Только так дозволяется истории войти в Царские Врата: через свидетелей ее веры, через искусство, которое, несмотря на его иератичность, отражает собой ситуацию человека, и через идеальное, назовем его так, «иконописное» государство. Время, переживаемое внутри Церкви, должно преобразиться в иконы, следуя при этом древним и освященным канонам. Так икона благословенного и полагаемого священным государства, даже когда его давно нет, и никакого реального, а не виртуального возвращения такового государства никак не предвидится, все еще остается живым образцом, пусть лишь в виде благого мечтательного воспоминания. Не всегда оно безобидно и отвлеченно, ведь память, как и утопия, иногда вторгается в реальность. Сегодня пассионарное пожелание, а завтра, глядишь, вновь догматическое Предание Восточной Церкви. История входит в Предание через икону и застывает в ней как «богоустановленный порядок», как неизменное и верное воплощение на земле веры Христовой. «Богоустановленный порядок» во времени в принципе неподвижен, хотя, конечно, он может пополняться воскрешенными монархиями, как и новыми мучениками, подвижниками, свидетельствовами веры, ибо, считается, что именно в этой вере живет подлинный «Христос чаши» и совершается таинство соединения с Богом и соучастия в жизни Божией.
II. Истинное православие «последних времен»
Хотел бы надеяться, что, пусть суммарно, но достаточно корректно я изложил здесь принцип православного Предания, служащего одним из двух главных источников Православия. Буду рад, если поправят меня, учитывая, однако, что говорил я не о конкретном выражении Предания (скажем, о каноническом или богослужебном устроении Церкви), но о начале, о принципе его. Я не стал приводить богословского определения этого принципа, гласящего, что Предание — это история Духа Святого в Церкви, которое можно найти у о. Георгия Флоровского или у о. Думитру Станилое, или у о. Иоанна Мейендорфа, поскольку в этом видении, безусловно верном по существу, время также определяет себя, исходя из созерцания своей иконы. Сегодня созерцание идеальных образов становится определяющим в нашей духовной ситуации. На смену эпохе гонений и удушений приходит период возвращения к вечным образцам, которые ныне ставятся на вид времени, чтобы ими его судить или просто от него отвернуться.
Судить или отвернуться можно многими способами. Начиная от самого крайнего — уйти под землю, как недавно сделали пензенские затворники в ожидании конца света, до почти незаметного — удалиться в келию души, не желающей миром сим оскверниться. Думаю, что уход под землю конкретно и несколько даже театрально выразил общее смутное чувство, постепенно овладевающее благочестивыми массами: с этой земли надо уйти в остановившееся сакральное время, потому что то время, которое на ней преходит, холодно, гибельно, «электронно» и враждебно Богу. Можно уйти, оставаясь, возлетая духом во «области заочны», при этом удобно и покойно, и как бы вполне спасительно устраиваясь в мире, подлежащем проклятию. Ибо он безнадежно болен глобализмом, новым мировым порядком, падением нравов и вообще стоит «при дверех».
Редко, когда разговоры о «последних временах», которые сами по себе далеко не новы, не были бы столь популярны и не находили стольких сторонников. Сегодня «последние времена», населенные Антихристами, стали особой идеологией, нацеленной на то, чтобы судить мир или, по выражению Марка Блока, «играть в богов». «Апокалиптический испуг», как его называл Флоровский, само собой вошел в моду и по-своему институализировался. И оттого перестал быть испугом, сам собою погас, остыл, затвердел в идеологии, так сказать, стабильного «конца света». Если в XVII—XVIIIвеках старообрядцы сжигали себя в срубах, дабы не оскверниться ложной верой и остаться верными истинной, то теперь героические суициды более не востребованы. Нет канонической территории с правом проживания только одного спасительного исповедания; истинное православие теперь можно создать и самому, дома или в публичной библиотеке, на основе правильной комбинации священных текстов, по сравнению с которым хартии прочих Церквей напоминают граффити на грязных стенах.
Суть истинного православия, хотя оно многолико, ибо непрестанно дробится на фракции, каждая из которых отлучает другую, можно выразить знаком полнейшего равенства между буквой нашего исповедания и жилищем истины на земле, воплощенной Премудростью, построившей себе дом, который до последнего кирпичика должен остаться раз и навсегда неизменным. Всякие ссылки на меняющееся время, обстоятельства, психологию и прочие, не имеющие церковного гражданства факторы, с презрением отвергаются как уступки секуляризму и выбрасываются в болото обновленчества. В этой перспективе, если додумать ее до конца, истории как таковой места просто не предусмотрено, ибо на ее место ставится лишь «подвижный образ вечности» (Платон), отражающий стоящее за ним Царство. Отменяется человек, что-то ищущий и добывающий какое-то личное опытное знание о Боге, ибо уже дан и прославлен образец человека, который этому некому уже сложившемуся и освященному знанию покорился. Всякий, кто погружен во время и пытается осмыслить его, каким бы он ни был добрым христианином, может изобретать только новые ереси, с которыми надлежит бороться вечными истинами. Ибо есть один Христос — Христос чаши, которая возносится на алтаре священного нашего Предания, все прочее — пища демонов.
Демонична история, в сущности, любая, уже в силу того, что она движется, а куда она ей еще двигаться, как не к «последним временам»?
Несмотря на мистический, и даже явно апокалиптический огонек, сожигающий внутренности истинного православия, в нем, прежде всего, бросается в глаза наивный, не способный на себя обернуться рационализм сего неколебимого равенства между интимной, жизненной верностью Богу и ее конкретным, словесным или обрядовым утверждением. Усомниться в одном из внешних, традиционных выражений веры, значит, утратить ее полностью. Отступать от них, значит оставаться вне единственного ковчега спасения с высокими крутыми бортами. Все, что происходит вовне, будь то революции, мировые войны, истребление целых народов, вообще ни к каким событиям не относится и веры никак не затрагивает, но стоит одному из обитателей ковчега на минуту отлучиться и произнести «Отче наш» вместе с другим исповеданием, это вызывает бурю на корабле, и виновный приговаривается к выбрасыванию за борт. Внешне истинное православие чувствует себя порой неуютно, ибо его теснит доминирующее православие, которое убеждено, что границы истины должны канонически совпадать с границами государства, но внутри себя оно (истинное) знает, что только для него нашлось место на ковчеге, и голубь, который несет ему масличную ветвь, уже в пути. Называя вещи своими именами, истинное православие заявляет вам следующее: вы обрекаете себя геенне, если не живете по тем священным уставам, о которых вы, может быть, и не подозревали, и не следуете предписаниям людей, о существовании которых вам не довелось и слышать. Незнание законов, как считается, по закону Бога любви, как известно, никого не освобождает от наказания. Причем вечного.
III. «Крошки со стола» творения
Но разве разделился Христос? — спросим мы вслед за Апостолом. Разве не Им Бог-Отец сотворил мир, не Его послал на землю, чтобы даровать Его нам в чаше, в иконе, в умозрении, в милосердии, и в той невидимой малой закваске, которая заквашивает как наше, так и всякое иное время? Но как же примирить их? Как освободиться от апокалиптического террора и непрерывно заседающего суда над временем, не утратив «Христа чаши», главной святыни нашей веры? Эта чаша, которая принимает Слово, однажды ставшее плотью, а затем благодаря таинству становящееся плотью нашей, состоит из драгоценного сплава апостольских, соборных и святоотеческих формул. Ключи таинства принадлежат Церкви, которая исповедует веру в то, что хлеб и вино, освященные однажды на Тайной Вечере, в сакраментальном смысле идентичны всякому хлебу и вину, освящаемым священником на алтаре. Есть лишь один Христос, Христос той единственной пасхальной трапезы и Христос всякой Евхаристии, вчера, сегодня и во веки Тот же. Мы знаем: для того, чтобы это таинство, назовем его таинством тождества, действительно совершалось, оно должно быть ограждено от мира, огранено богословской мыслью, обусловлено соблюдением канонов. Никто не хочет выкрасть чашу из алтаря и бросить ее в месиво мира, поглощающее все, чтов него попадает. Евхаристия совершается только в Церкви. Но не Церковь ли произносит слова Христа на Тайной Вечере: Пийте от нея вси… «Вси?…», значит, ты, я, любой? Нет, отвечают нам Предание и каноны, совсем не любой; чтобы принять участие в пире Царства, каждый человек, сбросив лохмотья, должен одеться в брачную одежду, подобающую этому пиру. Не Христос ли сказал: Не мечите жемчуга перед свиньями, не давайте святыни псам?
Но и псы,- бесстрашно возражает женщина-финикиянка, едят крошки, падающие со стола детей. Я думаю, история, если бы захотела иметь небесную покровительницу, то обратилась бы не к музе Клио, но к той безымянной чужестранке, нашедшей внезапно формулу благословения для всякого ино и чужестранства. Крошками, падающими со стола трапезы творения, осыпаны и времена и племена, которые питаются и освящаются ими, о том не догадываясь. Говорю ли я об анонимном христианстве? Нет, скорее о Слове Божием, которым, по выражению св. Иустина Философа и вере многих апологетов, осеменен весь род человеческий. Слово становится Телом и Кровью в чаше, но и живет в истории, ибо причастно всему, что есть, видимым же всем и невидимым. Мы причащаемся Слову Творца и в таинствах храма, но также и в неисчислимых таинствах жизни: любви, мысли, красоте, познании, милосердии, той бездне, которая заключена во всяком человеке. Мы причастны друг другу на той глубине, на которой свет Слова просвещает всякого человека, приходяшего в мир. Христос, не покидая Своего Царства, преходит в преходящем, течет в текущем, пребывает в неизменном. Жизнь жительствует в причастии широте, глубине или неожиданности мира, сотворенного Словом Божиим. Сама жизнь — причастие Ему в нескончаемой череде таинств.
Как соединить таинство Чаши и таинства жизни, которая есть история человека? Может быть, сам этот вопрос вызван нашей привычкой все разделять и противопоставлять? Община, принимающая вечное Тело Христово, становится Телом Христовым во времени. Времени, движущемся здесь и теперь, которое невидимым нитями Духа связано со временем сакральным, оставшимся в Писании, но не застывшим в нем, а идущим поодаль, живущим в нас. Церковь в Писании — прежде всего община и вместе с тем тело Христово, вошедшее во временное и географическое пространство, абсолютно реальное, как Церковь Божия в Коринфе, по слову апостола Павла. Но та же Церковь в Коринфе или в любом другом месте, несет в себе и эсхатологическое преодоление истории. Преодоление не означает конца, о котором мы уже знаем, но, прежде всего возвещение Царства Божия, которое, приблизившись, в преходящем мире сем, раскрывает свою природу «не от мира сего». Близость Царства вовсе не означает закрытия дверей истории и смешения эсхатологических «последних времен» с текущими сроками, которыми мы хотим назначить ей предел. Но это парадоксальное единство земного времени с тем эоном, когда времени больше не будет, во вс\кое время нужно открывать заново.
…ибо есть один Христос, восшедший на небесах и живущий в земной материи таинств, связанной временем. Его лик проступает через все то, что нами переживается, открывается, приносится Богу, умирает, возрождается. Мы попытались задуматься о том, как и когда Христос евхаристической чаши открывает Себя в истории. Но не открывает ли Он Себя и в евхаристичной тайне самого творения? Разве за пределами священного Предания, по таинственному слову ап. Павла, не «изображается Христос» (Гал.4,19)?
— Однако, — предвижу я возражение, — у апостола Павла речь идет о галатах, о христианской общине, и лишь на ней Христос оставляет свое подобие! Апостол проповедует, рождается Церковь, запечатленная образом Христа. При чем здесь языческая среда, из которой она родилась?
— Притом, что и за пределами церковных стен, ты слышишь голос Его. Это сказано о Святом Духе, но может быть отнесено и к воплотившемуся Слову Божию. Ибо если Предание, дарующее Христа чаши, есть нечто твердое и определенное и в принципе неизменное, то Откровение есть открытость Бога, которая дает узреть, услышать, узнать себя в образах или, как говорит, Павел, иносказаниях. Иисус повторял: имеющие уши слышать, да слышат. Слышать Слово там, где оно говорит. Там, где окликает, шепчет, разверзает небеса, утробы, чашечки цветов, сдвигает материки. Бог, многократно и многообразно говоривший в пророках, мог ли умолкнуть, став Человеком среди людей и подаривши им Свой голос, взгляд, облик? Его дар рассыпался на тысячу разных наречий, каждое из которых служит Его иносказанием, когда оно по-своему доносит до нашего слуха, сердца, разума единственное Слово Божие?
IV. Два образа истины
Владимир Лосский в известном своем «Очерке мистического богословия Восточной Церкви» пишет, что в жизни Церкви есть два аспекта, завершенности и становления. «Последний зиждется на первом как на своем объективном условии». Когда первый аспект становится главенствующим, возникает нечто подобное экклезиологическому монофизитству, созерцающее бытие Церкви в его неподвижной божественности, «где каждая подробность священна, где все обязательно как Божественная необходимость, где ничто не может быть изменено или преобразовано». Когда акцент переносится на второй аспект, Церковь представляется лишь земным, несовершенным, «блуждающим в потемках» человеческим обществом. При этом Лосский ссылается на старообрядчество (ссылка на старообрядчество стала, к сожалению, общим местом) и зарождавшееся тогда экуменическое движение, в то время почти исключительно протестантское, которое сразу же было запоздозрено, что оно готово принести «в жертву истину целям церковной икономии по отношению к миру».
Это писалось, очевидно, на основании опыта 30-х годов, но спор между двумя этими позициями только лишь разгорается: неизменность, «божественность» истины или жертва ею ради церковной икономии, а то и просто ради каких-то «европейских» или «общечеловеческих» ценностей и вообще неизвестно чего ради. Вступая в этот спор, мы иной раз обнаруживаем полное доверие к произносимому нами слову «истина», считая, что в Церкви оно совпадает с тем, что мы называем «верой». Истина есть вера, которую мы исповедуем. Но что такое вера? На этот вопрос можно ответить как в рациональных, так и в экзистенциальных выражениях. Вера есть исповедуемое нами «Верую» и вместе с тем она есть внутреннее событие такого исповедания. Вещей обличение невидимых (Евр.11,1). Наделение ликом вещей, на которые уповаем, а не только соответствие вещей и интеллекта, согласно старому философскому определению. Вера есть еще и событие (прежде всего событие сыновней и доверительной любви к Богу), которое протекает не только в нас, не только во внутренней клети сердца, но и в историческом бытии Церкви, как и во времени вне ее. Вера есть завершенность невидимых вещей, но также и их становление в нас, догмат, но и «притча», иносказание «Верую» в нашем существовании. Оттого участие в экуменическом движении, например, есть не только признак слабости веры или измены ей, в чем ее упрекают фундаменталисты завершенности, но лишь соучастие в событии веры другого, чьего Символа, чьей рациональной формулы веры мы вовсе не обязаны разделять. Но и не разделяя иной формулы, иной экклезиологии или христологии, не становясь на чужой камень веры, мы вовсе не обязаны превращать в камень невидимую тайну ее, каменеть перед динамикой ее становления, перед ликом Христа, Который «изображается», пусть даже мельком, внутри этого события. Собственно, экуменизм ни в чем ином и не заключается, кроме как в допущении того, что рационально иная вера может нести и являть осуществленнный подлинный образ Христов. И потому мы, даже будучи разделены у евхаристической чаши, можем найти Христа в сердце или в экзистенции другого и тем самым обрести и друг друга. Однако, спросят нас, самое различение внутреннего и внешнего, рациональной оболочки и экзистенциального ядра не таит ли в себе той пропасти, куда готова упасть и провалиться целостная и неделимая структура веры-истины?
Но разве в «теле» истины не заключены и рост и покой? Камень, на котором стоит Церковь, и Дух, веющий, где хочет? Разве в ней не заложена как христологическая, так и пневматологическая основа? Христос говорит : Слово Мое есть истина, и она, истина, хоть и не зависит от нашего ее усвоения, в то же время «устраивается» в нас. Нераздельно и неслиянно. Она созидает наше движущееся Предание, оставаясь при этом неизменной, неподвижной, отстоящей от всех его человеческих воплощений. Ее «есть» течет и пребывает, наполняясь все новым смыслом, открываясь в неожиданных откровениях, по мере того мы открываем себя истине Слова, становимся Слововместительны, Словосообразны. Вопрос об истине — это не столько вопрос о Боге, сколько о человеке, ходящем перед Ним и несущем на себе и в себе Его образ.
Ибо «Сам Бог, — как говорит Ириней Лионский, — есть жизнь причастных Ему».
«Бог таится в основе души, там, где основа Бога и основа души являются одной и той же основой», — говорит Мейстер Экхарт.
V. Две летописи Божьи
Основа же нашего знания о Боге — в Священном Писании. «Все Писание говорит о Христе», — утверждали святые Отцы, но разве Писание умолкло — спросим еще раз — с последней фразой Апокалипсиса: Ей, гряди Господи Иисусе? Нам скажут, что Слово Божие раскрывает себя в Церкви, но Слово не только в рукотворных храмах живет. «Чувственный мир, весь целиком, — говорит преп. Максим Исповедник, — тайно прозрачен для всего духовного мира, упрощен и объединен духовными сущностями…». Дух Святой, наполняющий эти сущности — осмелюсь развить эту мысль — посылает образы Сына, но уже не пророческие, ибо пророчества о Нем исполнились, но «иносказательные». Все, что сотворено, в том числе и время, становится аллегорией Слова.
Эта мысль принадлежит многим Отцам, которые ныне почитаются наиболее твердыми строителями Предания. Тот же Максим Исповедник, учивший о логоносности сущего, отказывался разделить евхаристическую чашу с монофелитами. Однако верность христологической истине вовсе не требует отсечения истины пневматологической. Предание говорит, что Бог даровал нам две книги: в одной из них Он иносказательно рассказывает о Себе в творении, в другой говорит ясным голосом Писания. Суть отношения Бога к миру — любовь, та, что выражает себя в дарении, в жертве Евхаристии, которая дарует Христа Чаши конкретной общине в исторически ограниченном времени и пространстве. Но при этом всякая община живет в Евхаристии творения или в Слове Божием, звучащем во всем, что Им создано. Существует причастие Слову, заключенному в общине, которое вовсе не отменяет причастия Слову, живущему в тварях. Грехопадение нашей мысли, — в этом была, возможно, интуиция Льва Шестова -принуждает нас к противопоставлению одного причастия другому. Христос Чаши и Христос времени, мира, творения неслиянны, но и нераздельны, ибо материя Евхаристии, хлеб, вода, вино суть элементы творения, предназначенного для преображения, мира, в котором Бог воцарится, чтобы стать всем во всем.
«Через Сына, — говорит св. Григорий Богослов, — мы познаем легко и быстро природу Отца, ибо все рождаемое есть немое определение рождающего. Если с другой стороны захотят назвать Его Словом, потому что Он присутствует во всякой вещи, это не будет ошибкой: разве не Слово сотворило все. Его называют Жизнью… потому что Он одушевляет все сущее. В самом деле, Им мы живем и движемся и существуем (Деян.17,28)… Именно от Него получаем мы жизненное дыхание и Святого Духа, Которого наша душа вмещает в меру своей открытости…»
Не будем ставить пределов этой открытости, не станем делать из нее какой-нибудь удобной идеологии, которая открытостью своей очень любит хвалиться. Весть Священного Писания, которую оно доносит до всякого времени, состоит в том, что она пишется и нами, ибо нас разделяет с Библией не только священное безмолвие веков, но и соединяет дуновение только что прозвучавшего Слова. Дух Слова Божия ведет к узнаванию Слова повсюду, где оно говорит во времени. Дух возвещает о Себе в истории, которая, выйдя из Библии, воспроизводит себя в иносказаниях то Вавилонского плена, чему мы все свидетели, то упования и обновления, то пророчества о грядущем Царстве, то угрозой, которая сегодня нависла над жизнью на земле, то неожиданно хлынувшими откуда-то лучами Царства Божия. «Богоустановленный порядок», коль скоро он существует, вовсе не чужд переменам, закваской которых служит Слово Божие, то Слово, которое однажды и навсегда воплощено Духом в тексте Писания, и то, которое тем же Духом Святым пишется всегда заново на плотяных скрижалях сердца и в летописи времен.
[I] Оливье Клеман, Беседы с патриархом Афинагором. Пер. франц. Вл.Зелинского, изд-во Жизнь с Богом. 1993, стр.185