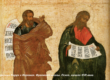Когда мы читаем Новый Завет и натыкаемся на цитаты из Ветхого Завета, мы их обычно проскальзываем. Это общая проблема всех мессианских мест. Сложившиеся толкования, которые переписываются из учебника в учебник, часто мешают чтению. Глаз замыливается — да, да, это мы знаем, это мы читали, это очевидно… Однако даже у Синоптиков, которые часто ссылаются на одни и те же пророчества, манера и логика цитирования может сильно отличаться. Что логично для одного Евангелиста, может совершенно не вписываться в логику другого. Каждое такое место требует отдельного исследования.
Некоторое время назад в Евангелии от Матфея я наткнулся на очень известное место (Мф. 12:14–21).
14 Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. 15 И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех 16 и запретил им объявлять о Нем, 17 да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: 18 Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой, Которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд; 19 не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его; 20 трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы; 21 и на имя Его будут уповать народы.
В 20 стихе мы встречаем два образа — надломленная трость и курящийся лен. Трость — это тростник, камыш. Лен — фитиль масляной лампы, по всей видимости. Главный вопрос состоит в том, кого Матфей сравнивает с указанными объектами и какое именно действие Христа комментирует словами из Исаии. Попробуем разобраться.
Существуют различные понимания этого места, которые условно можно разделить на три группы. Первая группа комментаторов предполагает, что смысл цитаты определяется текстом Исаии, из которого она взята. Например, Иларий Пиктавийский (IV в.) понимает это место так:
Трость надломленная не переломлена, и лен курящийся не погас, то есть бренные и измученные тела язычников не сокрушены, но скорее сохранены для спасения. И маленький огонь, как в курящемся льне, не погас — слабый Израиль не был лишен духа древней благодати, поскольку есть возможность достичь полноты света во время раскаяния.
Он обращает внимание на миссионерский аспект служения Христа, поскольку об этом напрямую говорит Исаия чуть дальше:
Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме — из темницы. (Ис. 42:6,7)
В таком случае сравнение с тростником относится к язычникам, а лампадный фитиль — к иудеям.
Для второй группы комментаторов смысл цитаты в большей мере определяется той ситуацией, в которую Матфей её помещает. Например, по мнению Иоанна Златоуста (IV в.), Матфей словами Исаии комментирует кротость Христа по отношению к врагам:
[Исаия], показывая Его силу, а их слабость, говорит: трости надломленной не преломит, — а Христу легко было сокрушить их всех, как трость, и притом уже надломленную. И льна курящегося не угасит. Здесь пророк изображает воспламенившийся гнев иудеев и силу Христову, могущую укротить этот их гнев и весьма легко погасить его. А это показывает великую Его кротость.
Видимо, для Иоанна Златоуста определяющим обстоятельством в данном случае является совещание фарисеев с целью погубить Христа, поэтому именно к ним относятся оба образа.
Толкования третьей группы оказываются довольно далёкими от контекста Ис. 42:1–8 и от ситуации, описываемой в Мф. 12:14–21. Например, Иероним Стридонский (IV–V вв.) размышляет так:
Тот, кто не простирает руки грешнику и не несет тяготы брата своего, — тот сокрушает надломленную трость. А тот, кто в малых сих презирает слабую искру веры, — тот угашает курящийся лен. Христос не делал ни того, ни другого, ибо Он пришел для того, чтобы спасти погибшее.
В этом случае курящийся лен можно соотнести с теми, кто приходит к Христу за исцелением, а надломленную трость с иудейскими учителями. Но всё это с большой натяжкой, поскольку комментаторов третьей группы интересуют другие вопросы. Для них этот текст — повод размышлять о милосердии Христа ко всем нам, и поэтому точное соотнесение образов льна и трости отступает на второй план.
Посмотрим на то, как сам Матфей обращается с текстами Писания. Он довольно легко вырывает слова из контекста, использует игру слов в пророчествах. Например:
…придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что Он Назореем наречется. (Мф. 2:23)
Каждый раз Матфей словно говорит читателю: «Ну кто бы мог подумать, что пророчество исполнится таким образом?!» Поэтому можем предположить, что комментарий Иоанна Златоуста больше соответствует идее Евангелиста, поскольку переосмысляет слова Исаии в соответствии с текущей ситуацией.
Казалось бы, на этом можно закончить исследование. Но есть одна странность. Мы все понимаем, что в 20 стихе смыслы тростника и фитиля выстроены в параллель. Обычно в таких случаях используются образы близкие не только по смыслу, но и из одного семантического поля — это свойство многих параллелизмов. Например:
Господи! не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоем наказывай меня. (Пс. 6:2)
Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это — суета! (Еккл. 5:9)
Как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. (Ис. 53:7)
В Мф. 12:20 можно было сказать, что Мессия тростинки надломленной не сломает, и ветви повреждённой не отсечёт. Или — коптящий фитиль не затушит, огарок не погасит. Половинки каждой пары не только передают общий смысл, но и относятся к одним и тем же семантическим полям.
Странность же заключается в том, что общего семантического поля между тростником и фитилем явно нет!
Разумеется, наличие такого поля не является обязательным. Но всё же возникает вопрос: а правильно ли мы понимаем Матфея? Нет ли за этими образами общего поля, которое мы просто не замечаем?
Посмотрим греческий текст:
Мф. 12:20
κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει, ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν.
Со словом λίνον в целом всё понятно. Словарь Дворецкого даёт следующие варианты:
1) лен; 2) льняная нить, пряжа; 3) льняная леса; 4) льняная сеть; 5) льняная ткань, полотно; 6) парус; 7) льняная одежда; 8) льняной фитиль; 9) нить судьбы, судьба (в связи с нитью Мойр).
Из них единственным, который может сочетаться со словом «курящийся» — это фитиль.
А вот со словом κάλαμος всё гораздо интереснее. Его можно перевести: 1) собир. камыш, тростник; 2) тростниковая тычина; 3) тростниковая свирель; 4) удилище или удочка; 5) тростниковая палочка для письма, перо; 6) тростниковая циновка; 7) стебель, солома; 8) полоска на ткани; 9) калам, мера длины ок. 3 метров.
Традиционный перевод «тростник, камыш» не имеет общего семантического поля с льняным фитилем. Но если мы возьмём перевод «тростниковая палочка для письма, перо», то обнаруживаем потрясающую вещь. Оба предмета являются инструментами переписчика книг.
Можно представить себе следующую сцену. Переписчик копирует свиток Торы. У него есть трость для письма и масляная лампада. Трость надломлена, фитиль коптит… Оба инструмента совершенно не выполняют свои функции, и их надо заменить, чтобы продолжить нормально работать. Но переписчик не может остановиться на середине слова. Он должен его дописать.
Попробуем реконструировать вопрос Матфея: не нужно ли прямо сейчас заменить учителей закона, которые свои функции не исполняют и хотят убить Христа? У Господа есть все возможности для этого — полно народу, который ходил за Ним и получил исцеления. Они готовы сделать Его царем (см. Ин. 6:14,15). Ответ он находит у пророка Исаии — нет. Поэтому Христос запрещает народу объявлять о Себе.
Может быть, это не переписчик, а секретарь суда, который до поры до времени работает теми инструментами, которые есть, потому что заменить их прямо сейчас невозможно — идет заседание. А когда суд вынесет решение, он заменит негодные инструменты. Тогда цитата из Исаии раскрывается ещё лучше, поскольку большой фрагмент Ис. 41:21–42:7 посвящён суду — суду над теми, кто вместо истинного Бога поклоняется пустым идолам.
Итак, мы нашли общее семантическое поле двух слов. Но Матфей цитирует отрывок из Исаии по-гречески. Теперь надо проверять оригинальный текст Исаии и сравнить его с переводом LXX. Допускает ли еврейский текст такое прочтение?
Оказывается, не допускает. Там стоит слово ka—Neh, и значения «трость писца» у него нет. Словарь Графова позволяет перевести его как: 1) тростник, в т.ч. благовонный; 2) трость для измерения ок. 3 метров; 3) стебель у зерновых растений; 4) плечо, плечевая кость; 5) коромысло весов; 6) ветвь светильника в Скинии (см. Исх. 25:33).
Но интересно, что один из переводов снова принадлежит к одному семантическому полю с тлеющим фитилем — всё это элементы Меноры.
В 41–43 главах пророк Исаия говорит о том, что народ поклоняется не истинному Богу, а идолам, и Бог будет судиться с ними. Возможно, слова о ветви светильника и фитиле относятся к священникам, которые не исполняют свои обязанности — не учат народ исполнению заповедей. До поры до времени совершающийся над ними суд не будет заметен, но по его окончании приговор будет приведён в исполнение: ты грехами Твоими затруднял Меня, беззакониями твоими отягощал Меня… за то Я предстоятелей святилища лишил священства… (Ис. 43:24,28)
Такое прочтение позволяет провести чёткую параллель между духовным состоянием учителей закона межзаветного периода и допленного священства, функции которого они фактически приняли на себя.
Интересно, что переводчики LXX для перевода ka—Neh используют слово κάλαμος, с широким спектром значений, хотя можно было подобрать и другие более точные слова. Скорее всего, это отражает попытку сохранить максимальную многозначность исходного текста. Трансформация исходного семантического поля, возможно, фиксирует передачу функций по научению народа от храмового священства к учителям закона, завершившуюся к моменту создания LXX.
Выводы:
1) Текст Ис. 42:3 по LXX допускает такое прочтение, при котором κάλαμος и λίνον τυφόμενον принадлежат одному семантическому полю — это инструменты переписчика Торы или секретаря суда.
2) Текст Ис. 42:3 на иврите также допускает прочтение, при котором ka—Neh и u—fish—Tah принадлежат одному семантическому полю — это элементы светильника, установленного в Скинии.
3) В обоих случаях эти выражения могут описывать ситуацию, когда служители, ответственные за духовное состояние народа, не выполняют свои обязанности. В результате этого народ перестаёт различать, какие пути ведут к Богу, а какие — нет.
4) Цитируя Исаию, Матфей оба выражения относит к учителям Закона и проводит параллель между их неверием Христу и нарушением заповедей храмовым священством до Вавилонского плена.
5) Возможно, трансформация семантического поля — от элементов священного светильника к письменным принадлежностям — отражает передачу функций по научению народа от храмового священства к учителям закона, завершившуюся к моменту создания LXX.
Сергей Сарвадий, Колледж «Наследие»
Доклад на Студенческой конференции 27 мая 2025 года