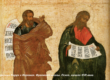«Нет большего труда, чем молиться Богу». Скольким молодым инокам, приходившим с вопросом к старцу, авве, довелось слышать это в ответ. Время не властно над этой неизбывной трудностью, приобретающей, тем не менее, различные оттенки. Перед любым поколением, а равно и его отдельным представителем встает задача овладеть доставшимся ему молитвенным наследием, а заодно и взять на себя ответственность за его переработку. Однако переработать его можно, только претворяя его в жизнь! Сегодня нам уже с трудом даётся понимание молитвы как «восхождения души к Богу», столь распространённое как на Востоке, так и на Западе. После Освенцима под вопросом оказалась сама возможность молитвы. Однако я полагаю, что ответ не должен ограничиваться заменой извечного титула Бога «Всемогущий» на «Беспомощный» (хотя есть и те, кто заявляет о «всенемощности» Бога). Мне кажется, что так мы зациклимся на логике теодицеи. Если же примем во внимание тот факт, что многие и в Освенциме, и в иных бесчисленных местах, где на земле царил кромешный ад, умирали с молитвой на устах, думаю, можно рассматривать молитву как странствие верующего к своему Богу, а точнее, как осознание им этого странствия. Тогда христианская молитва предстаёт как пространство очищения наших образов Бога. Следовательно, она представляет собой трудную повседневную борьбу за то, чтоб уйти от рукотворных образов божественного и приблизиться к Богу, явившему Себя в распятом и воскресшем Христе, истинному образу Бога, который вручён человечеству.
Если молитва — это беседа Бога и человека, состоящая из слушания Слова Божия, содержащегося в Писании, и человеческого ответа (ответа, предполагающего и ответственность), тогда молитва открывает человеку путь к сопричастию с Богом и с другими людьми. Таким образом, в ходе молитвы человек приспосабливается к среде Божественного присутствия, жизни пред Лицем Бога и с Богом, ко взаимоотношениям с Богом. В молитве сердце, то есть центр личности, сосредотачивается на Том, Кто говорит, Кто его зовёт, и, в силу такого смещения центра со своей самости, достигает «экстаза» (греч. ekstasis означает «исступление», «отход в сторону»), исхождения из себя, ради встречи с Господом и познания Его. Так проходит молитва: постоянное и бесконечное странствие верующего к своему Богу, ведение Которого отнюдь не данность, а непрестанная «поступь», нечто, происходящее в истории, в жизни. При этом достигнуть полноты боговедения не удаётся, ибо молитва есть взыскание лица Божия, непрестанный и упорный поиск со стороны того, кто покорен Присутствием, даже если он не в состоянии полностью передать, облечь в слова неизреченный опыт, пережитый им, оставивший неизгладимый след и превративший его в верующего.
Итак, молитва является осмыслением христианской жизни как странствия к Богу. И хотя Он незрим и безмолвен, Его незримость и безмолвие суть Отчие: Он не отсутствующий, а Присутствующий, Чьё присутствие подспудно и молчаливо; Отец, Который, будучи безмолвным и сокрытым от глаз, превращает Своё присутствие в зов, воззвание, призвание. Таким образом, молитва как форма общения с Тем, Кто незрим и погружен в молчание, может стать ответом на Его обращение, не нарушая свободу человека и его самовыражения, позволяя молящемуся в процессе богоискания познать самого себя. Мольба человека к Богу — это ответ на мольбу Бога к человеку. В этот диалог вступает все человеческое существо: человек есть чаяние, прошение, желание, отношение… Молитве присуще множество вариаций: благодарение, призывание, заступничество, просьба…
Христианское молитвенное «правило» представлено молитвой Иисуса, Сына Божия. Его молитве тоже довелось быть «не-выслушанной» в критический момент в Гефсимании, когда Иисус просит Отца, чтобы «миновал Его час сей» скорбный, чтобы Отец пронёс мимо Него сию горькую чашу. Однако при этом Сын Божий целиком полагается на волю Отца, а не на Свою. Молитва является не сублимацией человеческих желаний, не просьбой об исполнении Богом нашей воли, а странствием, в котором происходит постижение и принятие Божьей воли. Постоянно продвигаясь в богопознании, мы соответственно преуспеваем и в единении с Ним. Опыт показывает, что с годами молитва человека видоизменяется. Именно это свидетельствует о том, что она остаётся реальной связью с Богом, связью живой, не атрофирующейся. Это странствие и эта связь призваны привести образ жизни человека в соответствие с образом Божиим, коим является Иисус Христос.
Из книги «Лексикон внутренней жизни» Э. Бьянки