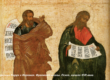Событие, коим явилось спасение, принесенное Иисусом Христом, находит радостный отклик в душе каждого христианина, верующего в Евангелие, в Благую Весть. Следовательно, радость неотделима от христианской веры и является не одной из возможностей, а ответом, который призван дать любой верующий. Такая ответственность определяется самим Пасхальным Событием, в котором Бог воскресил Иисуса Христа и явил людям надежду на воскресение. Все Благовестие заключено между возвещением великой радости рождения Спасителя в Вифлееме (ср. Лк 2:10,11) и потрясающей радостью, приведшей в трепет земную твердь на рассвете первого дня, по прошествии субботы, дня воскресения (ср. Мф 28:8).
Однако, чтобы прояснился смысл утверждения о том, что христианская жизнь несет на себе печать радости, необходимо задаться вопросом о человеческом опыте радости. Пусть даже нам не удастся дать исчерпывающее определение радости, ее испытывал каждый. Она подобна вершине бытия, ощущению полноты, в котором жизнь представляется позитивной, наполненной смыслом и стоящей того, чтоб быть прожитой. Вместе с Гансом Георгом Гадамером мы можем истолковать радость и как откровение. «Радость – это не просто состояние или чувство, а одно из откровений о мироздании. Радость обусловлена обнаружением в себе отрады». Когда мы переживаем радость, наша обыденность претерпевает некое преображение: мир приносит себя нам в дар, и мы охвачены восторженной благодарностью. «Единственно возможная реакция сознания на счастье – это благодарность» (Т.В. Адорно). Мы признательны за то, что нам радостно. Радуясь, мы ощущаем полноту смысла, которая открывает нам врата будущего, вселяя в нас надежду. Радость всегда имеет четкую связь со временем: мы можем испытывать радость ожидания (ожидая приезда дорогого нам человека, рождения ребенка и т.п.), а также радоваться чьему-то присутствию или воспоминанию (или, если хотите, припоминать радости: вспоминая, воскрешать в сознании пережитые в прошлом радости). Наглядным примером тому служит празднование какого-нибудь торжества, когда нам радостно быть вместе. Когда начинается и в какой момент заканчивается праздник? На этот вопрос нелегко ответить, поскольку празднику уже радуются те, кто его еще только ждет и готовит, и вместе с тем он может радовать тех, кто о нем вспоминает. Однако, помимо всего прочего, радость тесно связана с позитивным опытом встречи с другим и его присутствия. В этом плане показательны выражения приветствия многих культур: греческое слово chaire («радуйся») является пожеланием радости в момент встречи с другим; еврейским приветствием shalom («мир, здравие, целостность»), как и производными от него в других семитских языках, желают отрадного состояния. В целом мы вправе утверждать, что радость представляет собой опыт, объемлющий все бытие человека и приобретающий особую интенсивность в моменты проявления любви (радости дружбы и любви) и во время праздничного застолья (то есть совместной трапезы, являющейся непревзойденным ознаменованием радости жизни, притом жизни совместной).
Полагаю, невозможно не заметить, что все эти аспекты заключены и укоренены во Христе, присутствующем в Евхаристии. Христианин «с радостью» воздает благодарение («с радостью благодаря Бога и Отца», Кол 1:12), а сама Евхаристия приносит радость воспоминания о Пасхальном Событии, вновь переживаемом ныне и чаемом в его эсхатологическом свершении, когда Господь придет во славе. Это еще и радость – особо выражаемая «священным лобзанием» – общения верных, созидаемого присутствием Христа среди них: «Зримое всеобщее единение во время Евхаристии – источник преизобильной радости» (Иероним). Эта радость «во Христе» – человечнейшая из радостей – не обходит вниманием ни человеческое тело, ни межчеловеческие отношения, вследствие чего достигает своей высшей степени в Евхаристической вечере, в которой символ совместной трапезы приобретает, во Христе, значение пророчества об эсхатологическом пире. Эсхатологический аспект христианской радости наиболее выразительно проявляется в «радости в скорбях» (ср. 2 Кор 7:4; Кол 1:24), то есть в радости, не иссякающей даже в страданиях и горестях.
Это, разумеется, не означает, что христианину как таковому не ведомы ни печали, ни муки, несовместимые с радостью. Речь идет о том, что христианская радость обитает в глубине души верующего и состоит в его сокровенной жизни с Богом. Такой неизреченной и преславной радостью (1 Пет 1:8,9) проникнут тот, кто любит Христа и уже живет с Ним в тайнике веры. Эту радость никто не в силах отнять у христианина, ибо никто не в силах помешать ему любить Господа и братьев даже в экстремальных ситуациях: мученики проходят через это, дабы служить нам вечным напоминанием. Эта радость дается дорогой ценой тому, кто, приемля свою бренность и смертность, претворяет свое неизбежное нисхождение к смерти в восхождение к Отцу, в преисполненный упования путь ко Господу, к встрече с Тем, Чье Лице он так долго искал во дни жизни своей. Посему в Новом Завете радость нам заповедана апостольским повелением: «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» (Флп 4:4). Ибо ее отчасти можно и ныне уже ощутить, чая грядущую радость, совершенную радость окончательной встречи лицем к лицу с Господом. Поскольку эта ответственность возложена на христианина, ему следует подвизаться в радости. С одной стороны, дабы превозмочь вечно грозящий ему spiritus tristitiae (лат. – дух печали), а с другой – дабы не лишить мира свидетельства о радости, бьющей из родника веры. Именно радость верующих повествует миру о славе Божией! Как раз этого и взыскует от нас человечество: «Да явит Себя во славе Господь, и да узрим мы вашу радость, верующие!» (ср. Ис 66:5).
Из книги «Лексикон внутренней жизни» Э. Бьянки