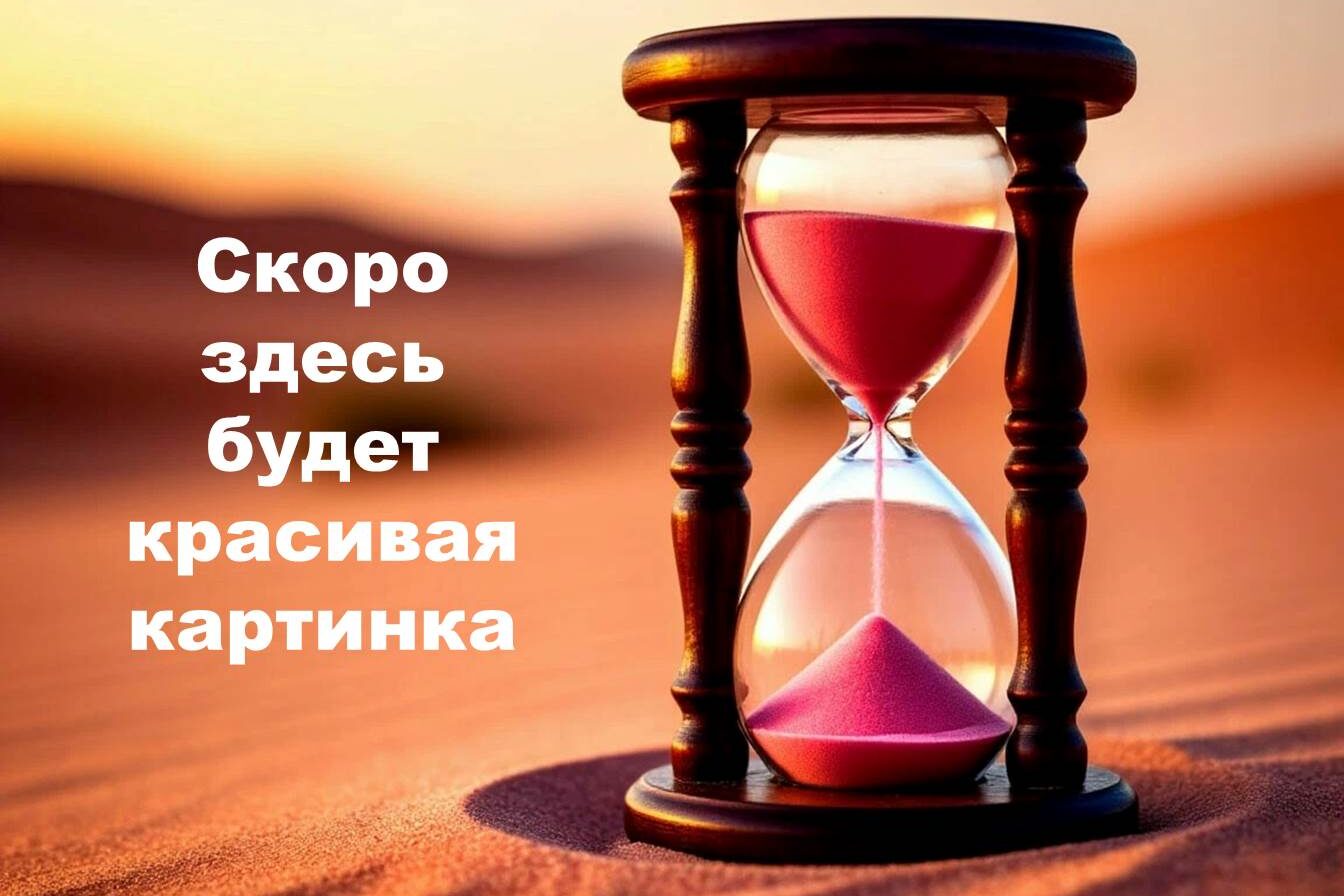Ольга Нестерова
Обсуждение вопроса о природе и особенностях метода христианской типологической экзегезы как одного из основных способов толкования Священного Писания требует предварительного уяснения отличий этого метода от метода аллегорической интерпретации священных текстов. Проблема разграничения этих методов была поставлена еще в IV в., когда Евстафий Антиохийский выступил с критикой оригеновского аллегоризма, положив начало затянувшейся на несколько веков полемике между антиохийской и александрийской экзегетическими школами. Однако, несмотря на недоверчивое отношение к аллегорезе со стороны многих восточных и западных Отцов, она продолжала широко применяться наряду с типологической экзегезой. Как правило, толкователь мог, по своему усмотрению, либо игнорировать различия между аллегорезой и типологией (как это делает, например, Ориген или, позднее, — Амвросий Медиоланский), либо использовать и тот, и другой метод, строго разграничив сферу их компетенции (в соответствии с утвердившейся в средние века теорией “четырех смыслов” Писания — буквального, морального, аллегорического и типологического), либо вообще отказаться (по принципиальным или практическим соображениям) от аллегорезы в пользу чистой типологии (напр., авторы сакраментальных катехизисов или типологических “сумм”, наподобие “Tractatus mysteriorum”Илария Пиктавийского) или в пользу достаточно широко понимаемого “буквализма”, враждебного аллегорезе, но не враждебного типологии (Василий Кесарийский, антиохийцы и др.).
Перечисляя все эти логические возможности, мы исходили из традиционного представления о том, что аллегореза и типология — это два самостоятельных и различных метода интерпретации Священного Писания, то есть как бы встали на точку зрения антиохийцев, рассматривавших типологию как приемлемый способ иносказательного толкования Писания, а аллегорезу — как неприемлемый, то есть резко противопоставлявших эти два метода. В справедливости подобной установки впервые усомнился Анри де Любак, который в своей знаменитой статье “«Typologie» et «allgorisme»” (Recherches de science religieuse. T. 34. 1941. — P. 180–226),полемически направленной против Жана Даниелу, утверждал, что критика антиохийцев в адрес Оригена и его школы была несправедливой, что разногласия антиохийской и александрийской школ явились результатом терминологических недоразумений и что как Ориген, так и антиохийцы пользуются одним и тем же методом “духовного” толкования, предполагающим отыскание за “буквальным” смыслом Писания неявного, иносказательного смысла, который Ориген именует аллегорическим, а антиохийцы — анагогическим, теоретическим или как-то еще.
Действительно, самые ожесточенные и непримиримые споры чаще всего бывают вызваны нежеланием сторон уладить терминологические разногласия, однако такие споры с легкостью разрешаются, если спорящие готовы проявить терпение и четко оговорить смысл употребляемых терминов. Но если бы выяснилось, что типология и аллегореза все же являются двумя разными экзегетическими методами, то это различие оставалось бы в силе, даже если бы эти методы не имели собственных наименований или именовались бы одинаково. Поэтому для решения этой проблемы необходимо сосредоточить основное внимание на вопросе о том, существует ли критерий (или система критериев), позволяющий различать “типологические” и “аллегорические” толкования.
Совершенно очевидно, что в своей полемике с Ж. Даниелу А. де Любак исходит из расширительного понимания термина allgorisme, подразумевая любые формы иносказательного (то есть замещающего буквальный смысл переносным) толкования, между тем как Ж. Даниелу употребляет этот термин в специальном смысле, для обозначения конкретного метода христианской экзегезы, генетически связанного с методом языческой философской аллегорезы, который христиане усвоили через Филона, и противопоставляя его типологическому методу, складывающемуся в рамках библейской традиции и представляющему чисто христианскую инновацию. И типологию, и аллегорезу (в специальном значении термина) можно отнести к разряду толкований, основанных на процедуре замещения буквального смысла, однако это еще не свидетельствует о том, что между ними нет никаких различий. Более того, пользуясь термином “аллегоризм” в универсальном и обобщающем смысле, мы рискуем упустить из виду не только различия между отдельными способами и видами “иносказательных” толкований, но даже и их отличие от толкований, которые принято называть “буквальными”, поскольку чистый “буквализм” невозможен и в силу метафорической природы самого человеческого языка, и в силу отсутствия четкой границы между экспликацией смысла и замещением смысла. Поэтому предпочтительнее начинать рассуждения, исходя из традиционной точки зрения, и, зарезервировав термин аллегореза для обозначения особого способа толкования, применявшегося язычниками к сочинениям древних поэтов, а Филоном и представителями христианской александрийской школы (Климент, Ориген) — к Библии, рассмотреть вопрос о том, тождествен ли этот метод методу христианской типологической экзегезы, или же нет.
Типологическую экзегезу обычно определяют как такой способ истолкования Священного Писания, при котором отдельные образы, лица и события Ветхого Завета истолковываются как прообразы (tpoi)реалий, действующих лиц и событий новозаветной истории. Иными словами, в основе христианской типологии лежит представление о том, что за образами и событиями Ветхого Завета скрыт некий таинственный смысл. Тот же самый принцип лежит в основе аллегорезы, имеющей тот же объект и отличающейся от типологии разве что иной областью значений. Тем не менее, на практике обычно бывает легко отличить типологическое толкование от аллегорического. Например, когда христианский экзегет усматривает в двух женах Авраама, Агари и Сарре, образ Синагоги и Церкви, мы имеем дело с примером чистой типологической экзегезы, но когда толкователь видит в Агари и Сарре олицетворения соответственно Философии и Богопознания, то это — аллегореза. Гораздо сложнее определить, в чем состоит принципиальное отличие первого толкования от второго: очевидно, что в обоих случаях ветхозаветным образам приписывается некий чуждый и абстрактный смысл.
Однако критики александрийской аллегорезы настаивали на принципиальном характере своих разногласий с Оригеном, упрекая его в произвольности толкований и в том, что этими толкованиями перечеркивается собственный смысл ветхозаветной истории. Оба этих упрека были не вполне справедливы, хотя и не беспочвенны. Именно на этих двух обвинениях строилась христианская критика языческой философской аллегорезы 1,и попытка переадресовать эти обвинения Клименту и Оригену сама по себе свидетельствовала о том, что экзегеза последних воспринималась их оппонентами как некая модификация языческой экзегезы. Однако оба аргумента противников аллегорического метода лишь указывают на существование противоречия, но никак не проясняют сути этого противоречия.
Обвинение в произвольности аллегорических толкований звучало бы вполне убедительно в устах последовательного поборника чистого “буквализма”, однако все главные оппоненты александрийской аллегорезы, будь то Василий Великий, антиохийцы или Иоанн Златоуст, считали возможным и даже необходимым использовать типологические толкования. И в том, и в другом случае библейским образам приписывается смысл, отличный от их буквального (“исторического”) смысла. Так почему же аллегорические толкования объявляются произвольными, если типологические заранее выводятся из-под аналогичного обвинения? Некоторые исследователи ссылались на то, что типология устанавливает между ветхозаветными образами и приписываемым им иносказательным смыслом “содержательную” связь, обеспечиваемую гомогенностью исходных образов и искомых значений, и что подобная связь отсутствует в аллегорических толкованиях. Однако у библейской Агари столь же мало общего с “Синагогой”, сколь и с “Философией”, так что нет оснований утверждать, что типологические толкования обоснованы лучше, чем аллегорические. Приходится констатировать и тот факт, что противники аллегорезы субъективно были убеждены в том, что аллегорические толкования произвольны, а типологические — нет. О том, чем была обусловлена подобная убежденность, будет сказано ниже, пока же ограничимся указанием на то, что критики Оригена интуитивно связывали различие двух методов толкования именно с различиями в области приписываемых значений.
Второй аргумент — обвинение в пренебрежительном отношении аллегористов к “букве” толкуемого текста — также оказывается не вполне убедительным. Языческие толкователи мифов действительно воспринимали творения древних поэтов как преднамеренный вымысел, “литературную фикцию”, облекающую серьезное философское содержание в живописную форму мифа. Однако объектом толкований Филона и Оригена была ветхозаветная история, а отнюдь не нелепые и оскорбляющие нравственное чувство интеллектуалов-философов басни о богах, поверить в которые могут разве что дети. И хотя христианские аллегористы обосновывали необходимость иносказательных толкований приблизительно так же, как их языческие предшественники, а именно тем, что буквальное понимание некоторых мест Писания оказывается невозможным и противоречащим здравому смыслу и что это должно побуждать толкователя к отысканию за “буквой” Писания некоего высшего, “духовного” смысла 2,однако на практике они распространяли свой метод вообще на любые тексты Писания, поддававшиеся аллегорическому толкованию. Трудно себе представить, чтобы Ориген (или кто-то другой из христианских писателей, прибегающих к аллегорезе филоновского типа) мог хотя бы на мгновение усомниться в достоверности и подлинности событий, описанных в Ветхом Завете, восприняв их как “литературный вымысел”. С другой стороны, представление о богооткровенности Священного Писания и о том, что Бог есть не только Творец мира, но и Творец человеческой истории, позволяло к самой истории подходить с “литературными” мерками, допуская, что Создатель так расположил действующих лиц и так распорядился ходом исторических событий, чтобы эти события, ни в коей мере не утрачивая своей реальности, указывали в то же время и на некий таинственный или провиденциальный смысл, угадываемый толкователем. Поэтому неудивительно, что аллегорист Ориген не только не отвергает идеи “гармонии” смыслов, лежащей в основе типологической экзегезы и предполагающей, что толкование не отменяет буквального смысла толкуемого образа или события и не ставит под сомнение его историческую достоверность, а лишь дополняет его или “надстраивается” над ним, — но и настаивает на ней. Соотношение “исторического” (буквального) и “духовного” смыслов Писания Ориген уподобляет соотношению телесности и божественности в Боге-Слове, воплотившемся Логосе, подчеркивая таким образом их единство (ср. Гомилия на кн. Левит. 1, 1). В одной из гомилий на книгу Чисел он говорит — вполне в духе антиохийцев — о восхождении от буквального смысла к духовному: “Сначала уразумеем то, что доносится до нас в буквальном смысле, и так, при споспешестве Господа, от разумения буквы станем восходить к уразумению духа” (Гомилия на кн. Чисел. 5, 1; ср. Толкование на Евангелие от Матфея, ser. 56, где говорится, что “простое”, буквальное понимание должно предшествовать “духовному”, то есть аллегорическому). Наконец, Оригену не чуждо понятие о смысловом единстве двух Заветов, Ветхого и Нового, имеющее принципиальное значение для типологической экзегезы: он постоянно говорит о “симфонии догматов” (то есть учений) обоих Заветов (Толкование на Евангелие от Иоанна. 5, 8), о “согласии таин” и “созвучии образов” (Гомилия на кн. Бытия. 10, 5; ср. Гомилия на книгу Исход. 5, 3; 6, 2; 7, 1; Гомилия на книгу пророка Иезекииля. 1, 3; Толкование на Евангелие от Матфея. 14, 4).
Иными словами, два основных обвинения противников аллегорической экзегезы не то чтобы вовсе не попадают в цель, но попадают в нее каким-то загадочным, косвенным образом, так что желание оградить Оригена и прочих “аллегористов” от столь неубедительной критики выглядит очень понятным. Однако признание того, что эти аргументы не могут служить основанием для противопоставления аллегорического метода типологическому, не избавляет от необходимости отыскать подобное основание, так как различие их не только интуитивно ощущалось многочисленными противниками аллегорезы, но и было в конце концов зафиксировано в учении о “четырех смыслах” Писания.
Отмеченную странность аргументации противников аллегоризма можно объяснить, если принять во внимание, что типология и аллегореза не только интуитивно воспринимались как разнопорядковые явления, но и в действительности были таковыми, поскольку имели различное происхождение и преследовали разные цели. Христианская аллегореза представляла модификацию того метода толкования Священного Писания, который использовал Филон; своеобразие этого метода заключалось в том, что конкретные образы рассматривались как персонификации философских абстракций, а их взаимосвязи — как отображение взаимосвязей, определяющих внутреннюю структуру и динамику жизни космоса или человеческой души. Классическая философская аллегореза знала два основных типа аллегорических толкований, которые принято условно обозначать как физические (или космологические) и моральные (включающие в себя также и толкования, которые мы сегодня назвали бы психологическими и гносеологическими) 3. Филоновская аллегореза имеет иной объект, однако задачи (обнаружение глубокого философского смысла, скрытого за конкретными образами), характер и — что особенно важно — тематика (космологическая или моральная) его толкований остаются теми же. То же самое можно сказать и о толкованиях, обнаруживаемых в экзегетических сочинениях Климента Александрийского, Оригена и других христианских “аллегористов”.
В существовании генетической связи между филоновской и христианской аллегорезой легко убедиться. Например, в трактате “Per tj prj t propaidemata sundou” (“О совокупности вопрошаний”) Филон усматривает в жене Авраама Сарре олицетворение Мудрости (или “высшей философии”, отождествляемой с добродетелью), а в Агари — олицетворение “свободных наук” (gkklia),без овладения которыми знакомство с философией оказывается бесплодным для пытливой души, олицетворяемой Авраамом. Позднее другой александриец, Климент, модифицировал это толкование, разъясняя, что Авраам — это образ христианина, Агарь — образ мирской мудрости и философии, а Сарра — образ Божественной мудрости, и что брак Авраама и Сарры оставался бесплодным до тех пор, пока Авраам не взял себе в жены служанку-Агарь, поскольку обретению высшей мудрости непременно должно предшествовать изучение философии (ср. Строматы. 1, 5) 4. В аналогичном ключе толкует образы жен Авраамовых Ориген. Обращая внимание на упоминание о женитьбе совсем уже дряхлого Авраама на Хеттуре (см. Быт 25:1), он говорит, что Хеттура олицетворяет собою “сладость” божественной мудрости, обретению которой не препятствует возраст, и что все вообще жены праотцев олицетворяют те или иные добродетели, каковых у христианина может быть сколько угодно 5.Все эти толкования объединяет то, что библейские персонажи рассматриваются в духе “моральной” стоической экзегезы — как олицетворение добродетелей (прежде всего — интеллектуальных).
Именно такие толкования обычно имеют в виду, когда говорят о христианской аллегорической экзегезе, и именно против них выступали противники александрийской экзегетической школы. Отвлекаясь от различий в объекте толкования, можно сказать, что филоновская и христианская аллегореза, во-первых, преследует те же цели, что и языческая, поскольку ищет некий высший, способный удовлетворить интеллектуалов смысл, скрытый за библейским рассказом; во-вторых, применение этого метода она мотивирует если не невозможностью или неприемлемостью буквального понимания, то его тривиальностью и недостаточностью, и, в-третьих, тематика этих толкований всегда совпадает с тематикой языческой аллегорезы, поскольку библейским образам приписывается не просто абстрактный, но либо физический, либо — чаще — моральный смысл. Так что критика антиохийцев была направлена главным образом против языческой философской аллегорезы как таковой, Оригену же инкриминировалось то, что он усвоил заодно и те цели, достижению которых служил этот метод. То есть спор шел не о том, допустимо ли усматривать в текстах Писания помимо буквального еще и некий отличный от буквального, абстрактный, “духовный” смысл, а о том, какого рода должен быть этот смысл и с какой целью он выявляется.
Правда, само по себе усвоение христианами метода философской аллегорезы не подразумевало автоматического усвоения целей. Главной задачей языческой философской аллегорезы была защита религии и ее мифологической традиции от критики со стороны философских школ, так что она преследовала апологетические цели. Но сходную задачу должна была решать и христианская аллегореза, призванная осмыслить ветхозаветное предание в контексте развитой философской традиции. Не случайно христианская аллегорическая экзегеза по своему происхождению связана с космополитической Александрией и с александрийской катехитической школой, деятельность которой была направлена преимущественно на обращение язычников. Так что сходная ситуация, требовавшая защиты религии от философской критики (а главными оппонентами христианских апологетов были именно языческие философы), вызвала попытку адаптировать для апологетических целей метод философской аллегорезы, хотя правомерность этого по-разному оценивалась с позиций эллинистической и сиро-палестинской традиции.
Задачи же типологической экзегезы были связаны с ее происхождением и обусловлены им. Христианская типология возникает уже в самом Новом Завете, то есть — как бы спонтанно и как бы укореняясь в себе самой. Разумеется, эта спонтанность — мнимая, и она свидетельствует лишь о том, что типология укоренена в традиции, которая не является экзегетической по преимуществу, хотя определенным образом связана с экзегезой. Подлинные истоки новозаветной типологической экзегезы следует искать в ветхозаветной пророческой литературе.
Литература пророчеств не принадлежит к числу экзегетических жанров, однако заключенный в пророчествах смысл (возвещаемый чаще всего в завуалированной форме и требующий истолкования) окончательно выясняется и обнаруживается только в самой действительности — после того, как это пророчество осуществится 6. Вера в возможность пророческого предвосхищения будущего порождает представление о внутренней связи различных временных “пластов”, позволяющей усматривать отображения будущего в настоящем и прошлом.
Ж. Даниелу, прослеживая развитие основных тем христианской типологической литературы, приводит примеры подобных аналогических связей между образами прошлого и грядущего, в которых видит своего рода ветхозаветную прото-типологию 7.Так, библейское описание рая служило источником образов, проецировавшихся на мессианские времена, когда земля будет изобиловать плодами и дикие звери не будут причинять людям вреда, а сами люди будут жить в мире и послушании Господу (Иез 34:25–31; ср. также Ис 11:6–9; 2:4), а Мессия воспринимался как “новый Адам” 8. В Ноевом потопе пророки видели образ последнего Суда (см. Ис 24:18; 28:17) и спасения Израиля (см. Ис 54:9). И, наконец, наиболее богатый “типологический” материал предоставляла тема исхода евреев из Египта как прообраза освобождения Израиля (см. Ос 2:14–15; Ис 11:15–16; 10:24–27; 43:16–21; Иер 23:7): Господь вновь будет шествовать впереди Израиля (Ис 52:12), Он источит для жаждущего народа воду из камня (Ис 48:21) и приведет его к источникам вод (Ис 49:10), Он заключит с Израилем новый завет — взамен того завета, который был заключен в день выхода из Египта и который был нарушен народом (Иер 31:31–33).
Существенно, что подобные типологические (или квази-типологические) параллели и аналогии всегда появляются в контексте эсхатологических и мессианских пророчеств; новозаветная типология формировалась с оглядкой именно на эти пророчества. Но, конечно, это еще не типология как таковая. Во-первых, подобный материал занимает в ветхозаветной пророческой литературе весьма скромное место. Во-вторых, установление аналогий между историческим прошлым и эсхатологическим будущим не было здесь результатом сознательных экзегетических усилий. И, в-третьих, эсхатологическое будущее, о котором возвещают пророки, еще не настало, так что, строго говоря, речь здесь идет не об установлении аналогий, а лишь о попытке описывать будущее, еще не получившее конкретного содержания, посредством общеизвестных образов и понятий.
Новозаветная типология основана на убеждении, что мессианские времена уже настали и что ветхозаветные пророчества о пришествии Спасителя исполнились с пришествием Иисуса Христа. То есть будущее, которое для ветхозаветного пророка было задано прошлым, для христианского экзегета становится данностью, так что его задача оказывается противоположной: обнаружить в прошлом пророчества, предвосхищающие настоящее.
Эту задачу с успехом выполняли подборки ветхозаветных пророчеств о Христе и Новом Завете — так называемые Testimonia, о характере которых можно судить, например, по “Свидетельствам к Квирику” Киприана Карфагенского (III в.) и другим аналогичным сочинениям. Сборниками пророческих свидетельств о Мессии располагала и иудейская традиция — еще до Нового Завета 9.Особенности цитирования подобных свидетельств у авторов новозаветных Посланий позволяют утверждать, что в распоряжении этих авторов уже имелись такие подборки, но вполне возможно, что их использовали и составители Евангелий. Во всяком случае, рассказ обо всех важнейших событиях жизни Иисуса Христа евангелисты подкрепляют ссылками на исполнившиеся пророчества. Последующая традиция лишь расширяла круг этих пророчеств, причем эта задача облегчалась тем, что мессианские пророчества, по всей видимости, с самого начала группировались по тематическому принципу, и в основе рубрикации лежали ключевые слова или образы (например, Мессия — “камень”), что позволяло включать в уже существующие перечни непрямые и неявные пророчества, а впоследствии — рассматривать под тем же углом зрения описываемые в Библии исторические события и ситуации, в которых подобным образам или символам отводилась та или иная роль. Однако обнаружение образов Нового Завета в ветхозаветной истории, относится уже к сфере компетенции типологической экзегезы, которая как бы продолжает и дополняет традицию Testimonia, воспринимая весь Ветхий Завет как единое пророчество о Христе. Так что типологические параллели между событиями ветхозаветной истории и событиями жизни Христа выполняют практически те же функции и обладают той же “доказательной” силой, что и “доказательные” пророчества в Testimonia.
Как уже говорилось, сама идея такой исторической симметрии, которая позволяет не только пророчески предвосхищать будущее, но и усматривать в прошлом образы грядущего, достаточно глубоко укоренена в ветхозаветной традиции. В Новом Завете эта идея выступает на первый план, в чем легко убедиться, вспомнив, к примеру, Нагорную проповедь (Мф 5) или принадлежащее Самому Христу чисто “типологическое” отождествление Иоанна Крестителя с Илией (Мф 11:12–14), в котором пророческая традиция видела будущего предтечу Мессии. Евангельское повествование не только подкрепляется ссылками на пророчества, но и сознательно выстраивается с оглядкой на “прообразовательные” события ветхозаветной истории. Например, когда Исайя пророчествует: “Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему” (Ис 40:3), — он уподобляет грядущее избавление Израиля новому Исходу, однако те же пророческие слова Евангелие от Матфея связывает с Иоанном Крестителем, проповедующим в пустыне (Мф 3:3). А стало быть, Евангелист принимает и даже подчеркивает параллель с Исходом, что позволяет усматривать связь крещения народа в Иордане с переходом евреев через Красное море, а последующих событий — с периодом странствий в пустыне. Во-первых, сорокадневное пребывание Иисуса Христа в пустыне и Его искушение, возможно, представляет собою параллель к сорокалетнему странствию в пустыне богоизбранного народа (тем более, что во Втор 8:2–3 прямо сказано, что Господь водил Израиль в пустыне, чтобы испытать его и узнать, будет ли он хранить верность заповедям Божиим). Во-вторых, Сам Христос, Которого Евангелист отождествляет с новым Израилем, воззванным Господом из Египта (в соответствии с переосмысленным пророчеством Осии), выступает у него и в роли нового “Вождя”-Моисея. А значит, сорокадневному пребыванию Моисея на горе Синай (Исх 24:18) соответствует сорокадневный пост Иисуса в гористой пустыне (Мф 4:1–2); возвещению Моисеем, сошедшим с Синая, десяти заповедей (Исх 34) — Нагорная проповедь (Мф 5–7), в которой Христос возвещает новые заповеди; переходу евреев под предводительством Моисея через Чермное море (Исх 14) — хождение Христа по водам (Мф 8:23–27); чудесному дарованию манны, которой народ питается в пустыне (Исх 16), — чудо насыщения пяти тысяч человек пятью хлебами, совершенное Христом (Мф 14:16–21); избранию Моисеем 70 старейшин и возложению на них Духа (Чис 11:16–17) — избрание Иисусом 70 учеников, посланных на служение (Лк 10:1); двенадцати коленам Израиля — поставление двенадцати апостолов; и, наконец, встрече Моисея с Господом на горе Синай (Исх 19:16–20) — Преображение на горе Фавор (Мф 17:1–9; Мк 9:2–9; Лк 9:28–36) 10.
Правда, подобные параллели лишь создают почву для типологии и служат ее материалом. Даже в тех случаях, когда аллегория в некотором тексте не сконструирована автором этого текста, а постулируется толкователем, следует различать саму аллегорическую фигуру и интерпретацию этой фигуры, осуществляемую толкователем; точно так же присутствия исторических параллелей недостаточно для того, чтобы говорить о типологии, поскольку типология начинается там, где этот параллелизм оказывается выявленным и зафиксированным толкователем. Поэтому вполне естественно, что самые ранние образцы подлинной типологической экзегезы обнаруживаются преимущественно в апостольских Посланиях, авторы которых могли занимать “внешнюю” позицию по отношению не только к ветхозаветной истории, но и к евангельским событиям, хотя в редких случаях эту роль толкователя мог брать на себя и Евангелист или даже Сам Господь (как, например, тогда, когда Он говорит о трехдневном пребывании пророка Ионы во чреве китовом как об образе трехдневного пребывания Сына Человеческого в сердце земли, см. Мф 12:39–40) 11.
Таким образом, первоначальной задачей типологии было вовсе не присвоение некоторому образу какого-то иного значения, отличного от буквального (как это происходит в аллегорической экзегезе), а установление “буквальных” параллелей между событиями ветхозаветной и новозаветной истории, позволяющее рассматривать Ветхий Завет как пророческое предуготовление Нового. Именно противники аллегорической экзегезы априори исключают возможность того, что упреки, которые они адресуют аллегористам, могут быть распространены также и на типологическую экзегезу. Действительно, типология в принципе не может рассматривать события ветхозаветной истории как “фикцию”, поскольку лишь в своей исторической достоверности они могут выполнять функции, близкие к функциям ветхозаветных пророчеств, подтверждающих, что Иисус Христос и есть ожидаемый Мессия. Соответственно, и упрек в произвольности толкований к типологии неприменим, поскольку область значений здесь вообще не конструируется толкователем, а является (или считается) заданной, так что задача толкователя сводится лишь к установлению соответствия между двумя образами или событиями.
Учитывая особенности происхождения типологической экзегезы, ее задачи и подход к толкуемым текстам, не предполагающий ни “замещения” смысла (как в аллегорической экзегезе), ни “экспликации” смысла (как в буквалистской экзегезе), приходится признать, что христианскую типологию и христианскую аллегорезу нельзя рассматривать как единый метод или как две разновидности единого метода толкования. Более того, даже самое сравнение этих методов требует величайшей осторожности, поскольку это гетерогенные явления, и сходство между ними может носить лишь вторичный, благоприобретенный характер (как сходство между дельфином и рыбой).
Это отнюдь не исключает возможности использования одним автором обоих методов толкования — даже в пределах одного сочинения 12, хотя известно множество образцов чистой типологической экзегезы и хотя многие толкователи сознательно избегали аллегорических толкований, настаивая на том, что буквальное понимание текстов Писания гораздо полезнее для души, чем домыслы толкователей, выискивающих в этих текстах философское содержание. В принципе же оба этих метода, служащие разным целям, могли иметь право на существование, так как они не противоречили и не мешали друг другу.
Гораздо большая трудность связана с тем, что христианская типология, изначально мыслящая себя как историческая типология, по ряду причин, которые заслуживают отдельного обсуждения, не может оставаться в рамках чистого исторического параллелизма “событий и лиц”, в результате чего типологические толкования могут приобретать форму, практически неотличимую от формы аллегорических толкований. Именно в этих случаях “псевдоморфозы” (поскольку типологический метод и здесь не меняет своей сущности и не забывает о своем происхождении и задачах) особенно остро встает вопрос о критерии, который позволял бы формально отличать типологические толкования от аллегорических.
Различие между аллегорическим толкованием, в котором Агарь и Сарра рассматриваются как персонификации Философии и Богословия, и типологическим толкованием, в котором они выступают как образы Синагоги и Церкви, состоит не в том, что аллегореза отрицает действительность вышеназванных исторических персонажей, и не в том, что типологическое толкование обосновано лучше, чем аллегорическое. В обоих случаях мы имеем дело с некоторыми абстрактными значениями, и различие между этими толкованиями связано прежде всего с определением области, из которой заимствуются эти значения. Поэтому для практического различения аллегорических и типологических толкований достаточно иметь в виду, что в христианской аллегорезе библейские образы и события могут получать только космологическое и моральное толкование, а в типологической экзегезе — только историческое (поскольку типологические значения всегда так или иначе подразумевают какую-то историческую реальность).
Однако является ли это различие (безусловно, полезное в практическом отношении и позволяющее безошибочно отличать аллегорические фигуры от типологических) существенным? Ведь и сам аллегорический метод подразумевает две возможных области значений, связанных между собою немногим более тесно, чем каждая из них могла бы быть связана с областью истории, однако применительно к аллегорезе мы все же говорим о едином методе. И если речь идет об абстрактных значениях, то так ли уж важно, из какой области черпаются эти значения?
На принципиальном характере этого критерия настаивает, например, Ж. Пепен 13,который указывает, что основное отличие типологии от аллегорезы состоит в том, что целью типологии было истолкование рассказа об исторических событиях в историческом (а не в абстрактно-вневременном, как в аллегорических толкованиях) смысле, и что типология явилась выражением нового, проникнутого духом историзма, мировоззрения, отличающего иудео-христианскую традицию от языческой.Однако этот тезис требует некоторых уточнений.
Во-первых, то, что в типологии историческим образам и событиям ставится в соответствие исторический смысл, отнюдь не предполагает сознательной установки авторов типологических толкований на поиск именно такого рода смыслов, объясняющейся “историчностью” христианского мировоззрения или тем, что выявление исторического смысла само по себе казалось им более предпочтительным, чем выявление, например, “богословского” смысла (как в аллегорической экзегезе). Как уже говорилось, первоначальной задачей христианской типологии было установление прямых аналогических соответствий между событиями Ветхого Завета и событиями Нового Завета, а содержание Нового Завета исторично — вне всякой зависимости от субъективных намерений толкователя.
Во-вторых, говоря о типологическом “историзме”, необходимо иметь в виду, что речь в данном случае не может идти об историзме новоевропейского (послегердеровского) типа, для которого характерно живое ощущение течения времени и неповторимости исторического события, объясняемого взаимодействием исторических же причин и сил. Типологический “историзм” характеризуется прежде всего провиденциализмом, переводящим историю в метаисторический план и оперирующим надысторическими абстракциями.
Можно предположить, что сам этот тип исторического (точнее — историософского) сознания, который мы условно назвали “типологическим историзмом” и который во многом противоположен историзму в привычном понимании этого слова, сформировался прежде всего под влиянием типологической экзегезы, доказательством чему может служить, например, историософия блаженного Августина, основанная на чисто типологических парадигмах 14.
В действительности типология скорее уводила толкователя от “чистого” историзма. Хотя ее первоначальная цель и состояла в выявлении “буквального” параллелизма между ветхозаветными событиями и жизнью Христа, однако материал для таких аналогий не был неисчерпаем, так что расширить их круг оказывалось возможным лишь за счет установления их на более высоком уровне абстракции. Кроме того, для любого христианина жизнь Христа имеет, помимо исторического аспекта, мистический и эсхатологический аспекты, которые также раскрывала типологическая экзегеза. И, наконец, в поле зрения типологии оказывались еще две темы: тема христианских Таинств, составляющих основу церковной жизни, и тема самой Церкви. Поэтому типологический параллелизм чуть ли не с самого начала утрачивает историческую конкретность и смещается в более абстрактный план. Но любые абстракции — в том числе и “исторические” — внеисторичны. Например, мистический брак Христа и Церкви (одна из главных тем типологической экзегезы) может подразумевать некоторую историческую реальность, но не является историческим событием в узком смысле слова. Очевидно, что с этой двойственностью типологических абстракций, побуждающей постоянно задаваться вопросом о том, историчны ли они, или нет, связана некоторая двусмысленность, которая не позволяет ни отказаться от критерия “историзма”, предложенного Ж. Пепеном, ни безоговорочно принять этот критерий.
Более надежным способом различать аллегорические и типологические толкования было бы указание на то, что последние всегда имеют пророческий смысл. Типология не просто устанавливает соответствия между событиями ветхозаветной и новозаветной истории, она говорит о пророческом предвосхищении Нового Завета в Ветхом. И она призвана обнаружить в Ветхом Завете вовсе не исторический, а пророческий смысл. Однако пророческого обоснования требовали не только евангельские события, связанные с земной жизнью, смертью и воскресением Христа, поэтому наряду с “чистой” исторической типологией развивается также эсхатологическая (или метаисторическая) типология, темой которой становятся судьбы Церкви и всего человечества, и сакраментальная типология — типология христианских Таинств. В последних двух случаях типологические аналогии устанавливаются на очень высоком уровне абстракции, и толкования приобретают значительное сходство с аллегорическими, однако существенна не степень “абстрактности” или “конкретности” типологических аналогий, а то, что они позволяют обнаружить в Ветхом Завете предвосхищающее отображение главных тайн христианской религии и укрепить таким образом веру. Иными словами, различие между христианской аллегорезой и христианской типологией состоит не в том, что одна апеллирует к внеисторическим смыслам, а другая — к историческим, а в том, что одна обращается к разуму, а другая обращается исключительно к вере.
Предложенный критерий хорошо согласуется с гипотезой о том, что типологическая экзегеза генетически связана с традицией “Тестимоний” и представляет собою развитие этой традиции. Кроме того, он избавляет нас от явно ложного допущения, будто авторы типологических толкований заведомо исходили из того, что исторические события могут истолковываться только в историческом смысле. Очевидно, что установление исторических аналогий не могло быть самостоятельной целью типологической экзегезы, между тем как поиск пророческого обоснования не только мог быть такой целью, но и определял собою вполне сознательный и преднамеренный отбор толкователем материала и тем толкования. И, наконец, он удовлетворяет всем формам типологической экзегезы — “чистой” исторической, метаисторической (обладающей наибольшим сходством с аллегорезой, однако оперирующей аллегорическими олицетворениями иного типа, чем последняя) и сакраментальной (по преимуществу символической, а не аллегорической), избавляя от необходимости рассматривать и оценивать эти формы толкований с точки зрения степени их конкретности или абстрактности.
Подводя итоги, можно сказать, что критика христианской аллегорезы со стороны представителей антиохийской школы не была результатом терминологических недоразумений и носила принципиальный характер, что типология и аллегореза — это два самостоятельных экзегетических метода, различающихся по происхождению, целям и характеру герменевтических процедур, составляющих их основу, и что сходство между аллегорическими и типологическими толкованиями является внешним и вторичным.
- См., напр., Арнобий. Против язычников. 5, 32–35и 4, 33. Христианская критика языческих методов толкования мифов рассматривается в кн.: P—pin. Mytheetallgorie. P., 1976. ↩
- Ср., напр., рассуждение на эту тему у Оригена в: О началах. 4, 15. ↩
- В первом случае персонажи классической мифологии рассматривались как персонификации сил, действующих в космосе, а во втором случае они рассматривались как персонификации сил и способностей человеческой души, то есть добродетелей и пороков. ↩
- К этому толкованию скорее всего восходит известная формула философия — служанка теологии, имеющая, таким образом, чисто экзегетический подтекст. ↩
- См.: Гомилия на кн. Бытия. 6. ↩
- Пророчества, которые еще не исполнились, но могут (или должны) исполниться, подвергаются гадательным толкованиям, которые впоследствии могут быть подтверждены или опровергнуты. ↩
- См. Dani—lou J. Sacramentum futuri. Études sur les origines de
la typologie biblique. P., 1950. — P. 3–8, 55–62, 131–134. ↩ - См. Feuillet A. Le messianisme du Livre d’Isaїe // Recherches de science religieuse. P., 1949. — P. 186–188, 191, 195, 211. ↩
- См. Dani—lou J. Études d’exg–se judo-chrtienne (Les Testimonia), P., 1966. ↩
- См. Dani—lou J. Sacramentum futuri. — P. 135–138. ↩
- Еще раз подчеркнем: самый факт трехдневного пребывания Христа во гробе или Его сошествия во ад не является “толкованием” рассказа о пророке Ионе и не рассматривается как таковое; акт толкования состоит в установлении аналогической связи между этими событиями. ↩
- Сочетание этих методов в высшей степени характерно для Оригена. ↩
- См. P—pin J. Mythe et allgorie. — P. 487–501. ↩
- Например, библейские Каин и Авель как олицетворения, соответственно, “града земного” и “града Божиего” в трактате О граде Божием,представляющем собою первую попытку христианского осмысления всемирно-исторического процесса и построения философии истории. ↩
Опубликовано в альманахе «Альфа и Омега», № 18, 1998