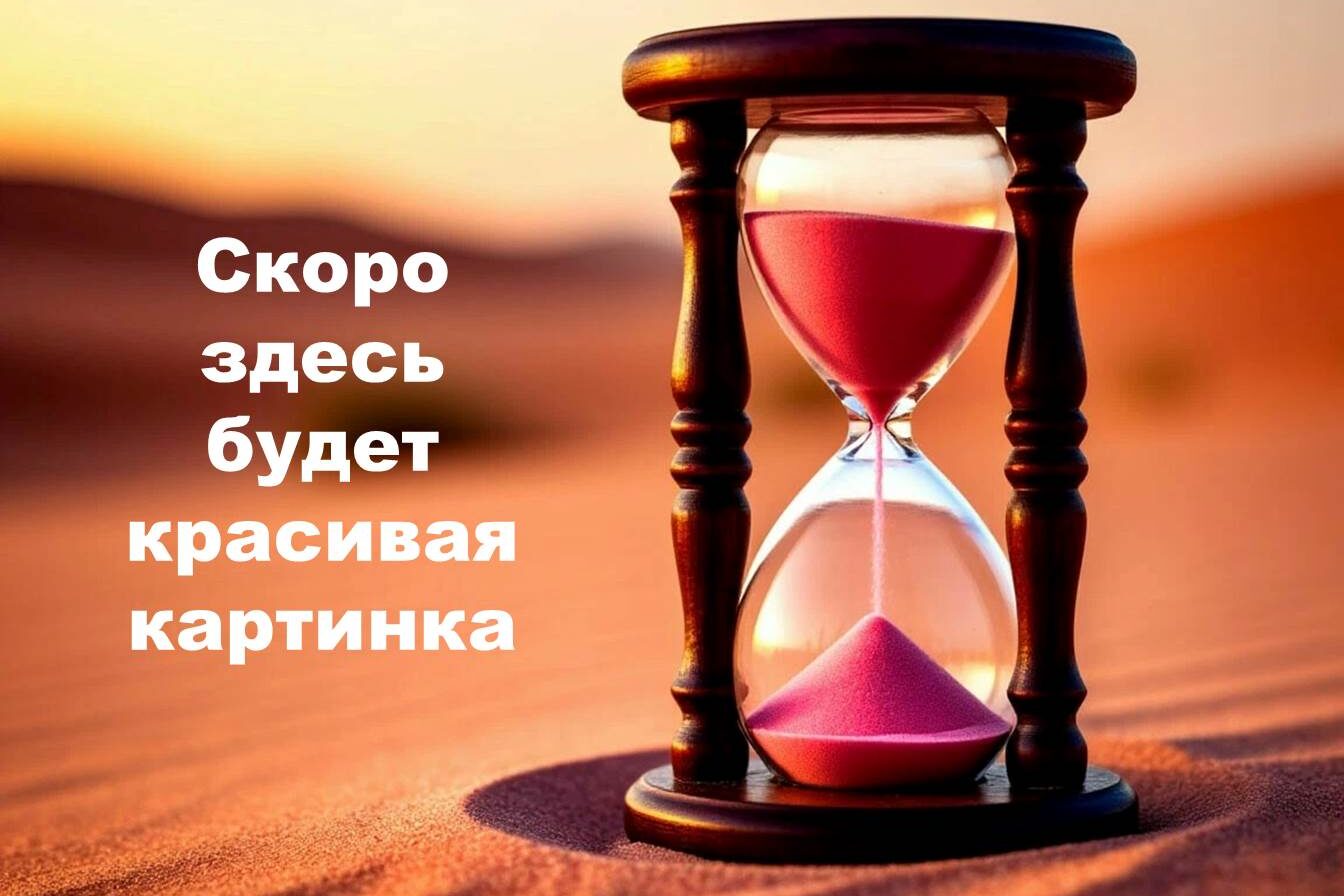Знаменитое собрание монашеских текстов, наставляющих в духовном восхождении к высочайшей сопричастности Богу, носит название «Филокалия», в переводе на русский язык «добротолюбие». Филокалия — это не что иное как «любовь к красоте» или даже «любовь к красоте любви».
Красота — это сущностный атрибут ипостаси Бога-Сына, Который, в свою очередь, есть совершенный образ Отца. Троическая любовь являет нам красоту божественного бытия. Святой Ириней Лионский видит Бога-Отца в образе божественного художника, который Сыном и Святым Духом из ничего творит красоту мира. Божественный Августин раскрывает эту мысль, говоря, что Слово было «искусством» Отца, архетипом всякой красоты, творческой Премудростью.
Красота спасет мир, поскольку Красота сотворила мир. Человек среди видимых творений сотворен по ее образу и подобию. Он есть главный шедевр Божественного художника. По воле Отца человек предназначен стать подобным образу Сына (Рим. 8:29) для того, чтобы явить славу Отца в Сыне, преображающей силой Бога (2Кор 3:18).
По мысли Св. Амвросия Медиоланского, «до грехопадения душа Адама была мастерски написана и великолепно отражала благодать природы его Отца». После грехопадения потомки Адама уже лишены той изначальной красоты. Но человек, хоть и поврежденный грехом и познавший смерть, остается носителем образа Божьего, хотя лишен славы Божией и подобия его. Аврааму дано обетование, согласно которому заложено новое начало спасения, когда Сын примет «образ» и восстановит человека в «подобии» Отца. Христос приходит, чтобы восстановить нас в красоте. Св. Григорий Нисский говорит: «Как жених Он поменял Свою красоту на нашу обезображенность». В этом — главный парадокс богословской эстетики евангелиста Иоанна и святых отцов: Сын в Своем снисхождении воплощения послушен даже до без-образности смерти.
Оливье Клеман пишет: «Сегодня для многих людей, находящихся в стороне от христианства, религиозная глубина жизни открывается лишь в красоте». но, продолжает он, красота, предоставленная самой себе, не способна спасти. В наше время красота и добро разделены: одно добро превращается в посредственность, а отдельно взятая красота может привести к безумию.
Сейчас красота претерпевает явный кризис. «Кризис» означает «суд», и если говорить о красоте в этом смысле, то заметны два противоположных движения: подход аналитический и обобщение синтеза. Аналитический подход начинается с кубизма и футуризма. Это критический взгляд на красоту. С точки зрения православного богословия — это трагическая фаза сошествия во ад, не сопровождающаяся воскресением.
Идеолог футуризма Маринетти говорит: «Человек не представляет больше никакого интереса… Его следует заменить материей, сущность которой мы должны понять интуитивно…». Главная поразительная особенность этого направления в изобразительном искусстве состоит в отказе от лица. В литературе слова отделяются от Логоса и кружатся, как сухие листья. С одной стороны, процессы, происходящие в искусстве, — это лишь зеркало глобальной эволюции, но это и пророчество, т.к. искусство сегодня изображает мир в состоянии полного распада. В этом смысле ярчайший пример — Пикассо и Кафка, которые описали реальность концлагерей задолго до ее осуществления на практике.
В дальнейшем переживающая кризис красота будет лихорадочной попыткой пробиться сквозь разделение падшего мира к иной, более возвышенной плоти, к духовной телесности, чтобы преодолеть трагический распад и достичь откровения в обоженном человеческом лике.
Одновременно с этим, аналитическим, подходом мы видим поиск синтеза красоты, имеющий целью преодолеть деструктивность искусства.
Общество на пороге ХХ века грезит о всеобщем искусстве и испытывает ностальгию по наивысшим ценностям. Русский Ренессанс мечтает о «теургии» искусства. Так Скрябин желал создать «мистерию», которая преобразила бы мир. Но, как мы знаем, поиск всеобщих ценностей приводит лишь к тоталитаризму. Русские поэты «Серебряного века» с энтузиазмом приняли революцию 1917 года, которой были сами же сметены. Хотя теория «социального заказа» стала попыткой осуществить, хоть и на очень низком уровне, настойчивые требования русских художников XIX века отказаться от «искусства для искусства», от культуры как предмета роскоши. Это же толкнуло сюрреалистов объятия коммунистов. Одновременно возникают попытки эстетически обустроить общество. Этим занимаются Ллойд Райт в США, Вазарели во Франции.
В области духовной культуры — невероятный всплеск оккультизма, увлечение нехристианским Востоком, ницшеанством, восточными методиками экстатических медитаций, мистическим эротизмом и наркотиками. Цель всего этого — растворить личное существование в безличном абсолюте. Но, тем нее менее, в «аналитическом» процессе есть некоторый поиск духовных основ, а в синтезе — жажда единства и интуитивное стремление обрести всеобщность искусства, приобщаясь к Церкви и Литургии.
В современном обществе обнажилось еще одно противостояние, которое поможет нам понять нынешнее положение красоты — противопоставление культуры и варварства.
Всякая великая культура рождается из культа, но постепенно отходит от своего духовного источника, провоцирует поиск древних оснований, корней, где человек обрел бы свою укорененность в традиции.
Но со временем она стремится к автономности, делается производством роскоши для элиты. В ней постепенно появляется пропитанное скепсисом стремление к индивидуальности. После периода высокого подъема каждая культура терпит некое состояние упадка, своего рода декаданс. Но в этом декадансе может зародиться и впоследствии расцвести другая великая культура. Так декаданс античной культуры стал вместилищем христианского откровения. А эволюция античного натуралистического портрета подготовила появление иконы.
Современная культура, несмотря на всю ее высоту, являет красоту культивируемую, лишенную первозданности. Но в ней есть загадка, которую кислота массовой культуры не может разъесть. Это красота человеческого лица и ностальгия по всечеловеческой общности лиц. Современная жизнь разлагает человека, отбрасывает его от истоков бытия, но тем самым заставляет искать древние корни. Но открыть новые пути красоты могло бы только обновленное христианство. Новый лик красоты является нам с нового древа жизни — с креста. Это красота распятого лика, прошедшего через смерть, сошедшего в ад, победившего ад. Нас спасает воскресшая красота Христа, хотя окружающий нас языческий мир смеется над этим. Неоязычество с презрением относится к плоти. Оно убеждено, что тело — «темница для души». Поэтому, чтобы соединиться с красотой, надо расторгнуть оковы плоти.
Но уже в Ветхом Завете сказано, что тело сотворено Богом и оно прекрасно. Оно является неотъемлемой частью человеческого естества. Сын Божий получил плоть от Пречистой Девы, страдал в ней, в ней умер, в ней же восстанет их гроба, в ней возносится на небо и восседает одесную Отца. В великом таинстве Евхаристии Он дает Своей Церкви эту же плоть. В ней Он вернется в последний день, чтобы телесно воскресить умерших.
Глава Церкви — воплощенное Слово. Его члены — мы, поэтому его победа над смертью — это наша победа. Весь человек призван разделить красоту Троицы.
Воскресение мертвых — это воскресение плоти. Эта новая плоть, благодаря искуплению, прекрасна. Павел говорит, что она подчинена Духу, ее свойства изменятся, но сущность останется прежней. Новая красота явит свои свойства — цельность и невинность. «При воскрешении праведники воссияют, как солнце в царстве Бога Отца» (Мф 13:43). Увидеть этот сияющий Лик возможно нам через слезы покаяния. Тогда вместо привычной красоты Он откроется нам преображенным, и, поскольку христианство есть религия лиц, через Лик Божий мы сможем разгадать лицо человека в Боге.
В подточенные пустотой и скукой наши времена свидетельство о Духе — «Подателе жизни» будет не только служением, но и искусством. Наши лица, благодаря творчеству Бога, засияют, как солнце. Это происходит с лицами святых уже в этом мире. В присутствии этой красоты сердце скачет от радости. В священном Триединстве иконы Андрея Рублева мы видим молодость и красоту. Наши молитвы в Церкви подготавливают «гениальную святость». Здесь же открывается место для обновленной иконы, созидаемой обновленной духовностью, «творческой способностью» Святого Духа, не только «Подателя жизни», но и «Подателя красоты». Итак, искусство погружает нас в самую гущу бытия. Оно делает из нас людей, а не машины. но наша поврежденность грехом приводит к тому, что, как сказал Достоевский, «Все, что остается нам от рая, — это детский смех и пение птиц».
Одним из изящных искусств становится убийство, но одновременно, это искусство себя и разоблачает. Человек обретает возможность войти в Царство через веру и благодарность, через откровение. Чисто литургическое искусство: иконы, фрески, мозаики, архитектура, а также гимнография и церковная музыка — имеют целью принять откровение. Оно открывает Бога через красоту. Литургического искусства без правил, без канонов не бывает. Они составляют его аскезу. Обратная перспектива, фронтальность, акцент на ликах — все это существует для того, чтобы красота открыла нам общение с Богом.
Благодаря этой аскезе в жизни и творчестве становится возможной для творца свобода, которая неотделима от любви. Об этом говорят лучшие образцы церковного искусства, например, мозаики Св. Софии в Константинополе или иконы Андрея Рублева. На Западе мы видим то же в искусстве Чимабуэ или Джотто, а позднее — у таких художников, как Рембрандт или Жорж Руо. Но Запад сконцентрировал свое внимание не на искусстве Преображения, а, скорее, исхода. Он выбрал в Богочеловечности человеческое.
Сейчас свобода стоит перед выбором: или разрушиться, или почувствовать, что она сама нуждается в освобождении.
В православной традиции икона — часть богослужения. Икона очень рано появилась в христианском мире — в римских катакомбах. Это искусство было связано и с погребениями, и с гонениями на первых христиан, творивших свои первые Литургии. Оно уже было исполнено радости. Поначалу оно заимствовало свою технику у эллинского искусства. Лишь начиная с IV или V вв. появилась икона.
Одновременно возникло враждебное течение, питавшееся запретами Ветхого Завета и страхом перед идолопоклонством. Иконоборческий кризис разразился в 726 г. и продолжался до 843 г. Но этот кризис способствовал очищению почитания образа. Живой Бог открылся в человеческом лице не только как Слово, но как Образ. Вот как пишет об этом Иоанн Дамаскин: «Поскольку Тот, Кто будучи образом Бога принял образ раба… рисуйна доске и предлагай для созерцания Того, Кто пожелал быть видимым, выражай Его неизреченное милосердие…» (Иоанн Дамаскин. «Три слова против порицающих иконы»).
В трудах и практике Григория Паламы недосягаемый Бог становится доступным для общения через Свои «энергии». Поэтому для богословия иконы особенно важны темы Преображения и Нерукотворный образ.
Анастасий Синаит в гомилии на Преображение пишет: «Что может быть более потрясающим, чем видеть Бога в образе человека, видеть ослепительное лицо, сияющее ярче, чем солнце». Икона создается не ради магического обладания, а ради христианского общения. Великий русский богослов ХХ века Павел Флоренский написал: «Если есть Троица Рублева, значит есть Бог». Красота икон — это категория онтологическая, а не эстетическая.
Поэтому от иконописца требуется особая точность. Необходимо освободиться от всякой субъективности и индивидуальных фантазий, и тогда он обретает особую свободу, такую, какую мы видим в иконах Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия. В иконе все: жесты, позы, ракурс, лик — должны указывать на личное преображение Фаворским светом. Символический язык не становится абстрактным, все сохраняет свое лицо.
В Откровении Иоанна Богослова говорится, что Новый Иерусалим, образ которого лежит в основе иконописания, «не имеет нужды ни в солнце, ни в луне… ибо слава Божия осветила его…» (Откр 21:23). Поэтому свет в иконе не исходит из определенного источника, но присутствует повсюду, предметы не отбрасывают тени, все освещается изнутри. «Обратная» перспектива позволяет пространству расширяться вглубь, как бы сияя «от славы к славе».
Икона являет Слово на невербальном уровне. Искусство иконы известно на Западе до XIV века (Треченто). В последующие века Запад предпочитает то, что Оливье Клеман назвал искусством «Исхода», в котором выражены поиск, тревога, чувственность, но и прозрения человеческие. Таковы произведения художников от Джотто, Фра Беато Анжелико до Рембрандта и Руо.
Кто-то сказал: «Смотреть на иконы — значит поститься глазами». Крест открывает нам иную и, одновременно, ту же самую красоту. Николай Бердяев писал: «Красота не может совпасть с удушающей пошлостью мира: она есть распятие на кресте розы жизни, которая расцветает в тайне жертвы». Поэтому чем дальше от креста, тем дальше от красоты, как на картине Иеронима Босха «Несение креста».
Итак, у Бога много имен, и одним из них является Красота. Бог Сам есть красота красоты. Круг, в который вписаны Три Ангела на иконе Андрея Рублева, имеет своим центром жертвенную чашу. Бог творит мир за шесть символических дней. В конце каждого дня Он говорит: «Тов», что одновременно означает «хорошо» и «красиво». «Дух заставляет различные образы стремиться к полноте и красоте», — говорит Ириней Лионский («Доказательства апостольского учения», 5, 6). Человек призван стать творцом и освободителем красоты, возвращая ей образ Божий. Этот образ рождается разбитом, но утешенном Утешителем сердце. Н. Бердяев пишет: «Красота есть характеристика высшего качественного состояния бытия, высшего достижения существования» (Н. Бердяев. «Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого», гл. 10 «Красота»).
В нашем мире мы создатели и жертвы. Красота творения стала двусмысленной. Она, как Нарцисс, соблазняет саму себя: «Как упал ты с неба, денница», — говорит Исайя (Ис 14:12), а Иезекииль вторит: «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою (Иез 28:17). Теперь доброе и прекрасное разделены, и красота уже не отражает правды. Человеческое искусство, презирая личность и бытие, рождает зверские образы. Красота, как сказал Достоевский, может быть красотой Мадонны и красотой содомской. Но во Христе человек обретает жизнь, которая сильнее смерти. На горе Фавор Он заставляет вновь засиять изначальную и последнюю красоту.
Но эта красота должна засиять не только на вершине горы, но и в бездне ада. Поэтому за Фавором следуют Гефсимания и Голгофа. Новая красота не двусмысленна, но тождественна любви. И эта красота делает нас свободными. Достоевский сказал: «Нет и не может быть ничего более прекрасного, чем Христос» («Письма»). И теперь мы вслед за князем Мышкиным можем сказать: «Красота спасет мир».