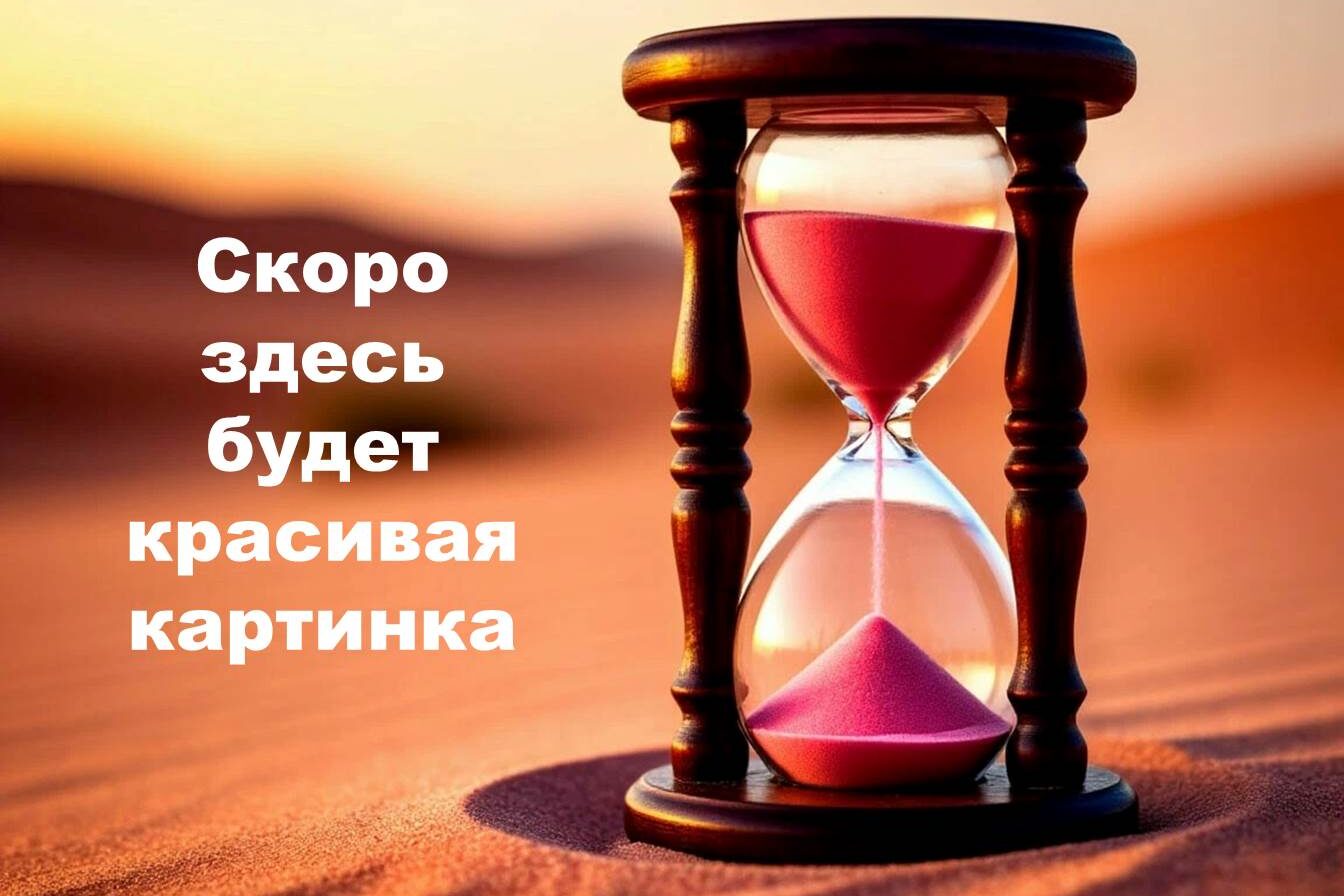Протоиерей Михаил Дронов
Православная икона стала одним из неотъемлемых компонентов интернациональной эстетической культуры, сегодня она — некий признак цивилизованности во всем мире. Однако столь высокая оценка иконы как произведения искусства насчитывает едва ли более 80 лет. Можно с достаточной определенностью говорить о дате открытия иконы для мира: В. Н. Лазарев называет 1913 г., когда “широкая публика по настоящему поняла эстетическую ценность иконы”, — это случилось после Московской выставки древнерусского искусства, на которой фигурировало множество замечательных икон XV-XVI вв[1]. Иногда называют 1916 г. — год выхода в свет двух очерков Евгения Трубецкого о русской иконе (третий вышел в следующем, 1917 г.). Потом были отец Павел Флоренский, прот. Сергий Булгаков, Леонид Успенский, послевоенная плеяда искусствоведов и многие другие… Но начало все же положила публичная лекция князя Е. Н. Трубецкого, название которой оказалось настолько удачным, нас-только точно, всеобъемлюще и красиво передающим суть православного иконографического образа, что даже от бес-престанного повторения в течение десятилетий богословами, историками и искусствоведами оно не потускнело и не сделалось затертой монетой. По-прежнему в нем продолжает завораживать запечатленный миг прозрения русского мыслителя. Название первой публичной лекции Е. Трубецкого, сделавшееся крылатой фразой — “Умозрение в красках”.
Ясно, что в сентенции князя Е. Н. Трубецкого слово “умозрение” неожиданно вышло из берегов, обычно отводимых ему словарями, широко разлилось этаким сильным полноводьем. Словарные статьи прочно связывают это слово с “теорией” как c умозрительным построением, противоположностью опыту и практике[2]. У Трубецкого семантика “умозрения” намного шире, она легко вобрала в себя, например, византийскую аскетическую традицию, где Jewria — означает созерцание фаворского Света, Красоты и Любви Божиих и является парным понятием-противопоставлением для praxis, духовного подвижнического делания[3], которое у Трубецкого также внутри “умозрения”. “Умозрение в красках” — это, разумеется, не отвлеченное построение, это скорее может быть равнозначным слову “миропонимание”, указывает на огромный пласт традиции православного христианского учения.
Не мог пройти мимо поэтико-терминологической находки Евгения Трубецкого и прот. Георгий Флоровский, сегодня бесспорно самый цитируемый историк Русской церкви и известный патролог. Над своим фундаментальным трудом “Пути Русского богословия” он работал в 30-х годах в Париже (вышел в 1937 г.). Правда, тезис отца Георгия о “вековом, слишком долгом и затяжном русском молчании” в допет-ровский период позже был оспорен не только исследователями древнерусского церковного искусства, но и исследователями литературы. В частности, когда по отношению к наследию русской письменности были применены Д. С. Лихачевым[4], С. С. Аверинцевым[5] и их последователями герменевтические принципы, неизвестные исследователям старой формации, то “молчание” на деле оказалось красноречивым многоголосием.
И здесь стоит задержаться. Открытие русской иконы и открытие новых принципов понимания древнерусской литературы безусловно имеют общее происхождение и общую природу. Это — элементы единого процесса. Н. К. Гаврюшин, составитель самого свежего, пожалуй, на сегодняшний день компедиума, посвященного осмыслению русской иконографии, и автор Предисловия в нем, назвал этот процесс “само-познанием” христианской культуры[6]. По ходу дела следует заметить, что термин “самопознание” много и часто употребляют представители философской герменевтики и феноменологии первой половины XX в., правда, вкладывая в него смысл в большей степени локальный и индивидуальный. Например, для Гадамера понимание исследователем любого текста обусловлено его пред-пониманием, предыдущим опытом, с которым исследователь приступает к изучению этого текста. В конечном итоге не может быть воссоздания первоначального авторского смысла; интерпретация — это всегда создание смысла заново, а осмысление прошлой культуры — это самоосмысление своего понимания традиции[7]. Поэтому в споре между преподобным Иосифом Волоцким, апеллирующим к “согласию отцов”, и Н. К. Гаврюшиным, который утверждает, что “задача, стоявшая перед преп. Иосифом, была совершенно не по силам не только ему, но и всей христианской культуре того времени, ибо ею еще не был достигнут необходимый уровень самопознания”, Гадамер определенно на стороне преп. Иосифа.
И все же, возвращаясь к открытию русской иконы в начале XX в., небезынтересно было бы остановиться подробнее на вопросе, почему оно произошло именно тогда.
И здесь необходимо предварительно заметить, что это было открыте “русской” иконы, которое для мира сделали русские мыслители и исследователи и до сих пор во всем мире в этой области практическую монополию держат русские ученые за редким исключением (например, книга “Икона и топор” Джеймса Биллингтона, но и он — ученик о. Георгия Флоровского по Гарвардскому университету). Исследователи может быть потому так мало задавались вопросом: «а как это открытие вписывается в общемировой процесс, названный Н. К. Гаврюшиным, “самопознанием”?», — что, находясь в естественном контексте своей культуры, не имели достаточной мотивации для рассмотрения его со стороны. Если стремиться к большей точности в определении мирового “самопознания” культуры, то этот процесс следовало бы назвать “самоограни-чением познания” или “ограничением себя”, которое совершили позитивистская наука и философия. Но здесь уместно будет от иконы и передачи содержания Благой Вести Христовой в форме иконографического образа перейти к другой форме, форме слова.
Что передал 12 ученикам, а через них всей Церкви Основатель христианства? Богочеловек Иисус Христос оставил Своим ученикам вовсе не логически строго выстроенную систему учения. Переданное Им не было даже содержанием, заключавшимся только в словах. Он дал жизнь, наполненную новыми, невиданными ощущениями. Их принесла Радостная Весть (о Царстве, в котором Царь — Он. Поэтому то учение, которое Христос оставил Своим ученикам, это не словесное описание какой-либо реальности, предназначенное для усвоения, но это — требование иметь в себе эту Жизнь и переживать приносимые ею ощущения: “сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас” (Ин 15:12). Содержание этого учения, то есть переживания любви, невоз-можно выразить в словах или формализовать каким-то другим путем. Можно только его принять и иметь.
И еще один, более важный элемент учения, оставленного Христом Своим ученикам. Здесь содержание учения (если только применим этот термин) выражено даже не в словах, а в действии: “…и взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание” (Лк 22:19). Именно это — главное, что оставил Своим последователям Христос, и это “главное” заключено отнюдь не в форме слов, а в форме Литургии (то есть в переводе с греч. — действии).
Что же касается словесного христианского учения, то ядром его является письменное свидетельство евангелистов о Благой Вести об Учителе и Его Царстве. Это также отнюдь не систематическое учение в современном понимании. Только столетия спустя христиане систематизировали основные положения своей веры в категориях формальной логики, и то вынуждены были это сделать в связи с появленим явных искажений христианства, каковыми явились ереси. А до тех пор свидетельства, составившие Священное Писание Ветхого и Нового Заветов, были записаны, как теперь принято говорить, на языке библейского мышления. Структура этого языка (а следовательно, и мышления) не логическая, но аналогическая, то есть главная схема развития мысли: “это подобно этому”, а не “это означает это”.
Типологический ряд различных структур мышления продолжил в наше время протопресвитер Алекасандр Шмеман (опять-таки это стало возможным благодаря все тому же “самопознанию” научного и философского мышления, достигшему соответствующего уровня). Разбирая природу литургического символа, отец Александр замечает, что «“в нем, в отличие от простого изображения, простого знака… две реальности — эмпирическая, или “видимая”, и духовная, или “невидимая”, соединены не логически (“это” означает “это”), не аналогически (“это” изображает “это”) и не причинно-следственно (“это” есть причина “этого”), а эпифанически (от греч. epiphaino — “являю”)»[8]. Таким образом, в типологии форм передачи содержания жизни во Христе найдено место еще одной форме — литургическому действию и в первую очередь Таинству Евхаристии, заповеданному Христом ученикам на Тайной вечери. В Литургии “видимая” реальность совершаемых действий являет “невидимую”, но не менее действительно переживаемую реальность сопричастности к Царству Христову. Литургию человек не постигает как сообщение или текстовую информацию, а проживает как возможность внутри отведенного на нее времени, ограниченного началом и концом, пережить причастность к Вечности, к вечной радости любви Христовой. В отличие от других форм передачи Благой Вести, имеющих знаковую природу (слово и образ), Литургия — знак только отчасти, потому что она отчасти уже сама Жизнь, на которую указывает знак. Она еще знак и уже Жизнь. Этого в такой полноте нельзя сказать о чисто знаковых формах передачи содержания христианского учения, какими являются словесная и иконографическая формы выражения. Хотя и среди высказываний об иконе сегодня можно встретить, что “икона ничего не изображает, а являет. Она есть явление Царства Христова”. Эта фраза принадлежит одному из немногих, кто в наши дни признан подлинно иконописцем, архимандриту Зинону[9]. Столь глубокое переживание иконы он объясняет тем, что “икона рождается в Литургии и является ее продолжением”[10]. “Своими корнями икона уходит в евхаристичекий опыт Церкови”[11].
Итак, эпифанический символ, являющийся своего рода структурной основой литургии, протопресвитер Александр Шмеман противопоставил словесным системам, которые также различаются между собой по характеру взаимоотношения в них передаваемой и передающей реальностей: причинно-следственный тип мышления особенно доминировал в эпоху Просвещения и в XIX в. с их рационализмом и верой в исключительно механическую картину мира; мышление логическое (по прот. А. Шмеману — “это” означает “это”) было главным инструментом европейской схоластики и византийского патристического синтеза; и, наконец, мышление аналогическое (“это” как “это”, “это” подобно “этому”) наиболее характерно для библейских текстов. Протоиерей А. Шмеман формулирует принципиальную схему умозаключения аналогического мышления даже в таком виде: “это” изображает “это”. Ясно, что иконографический символ с его структурой образности ближе всего к библейскому мышлению. Две разных формы передачи одного и того же — содержания христианского учения, Благовестия, принесенного в мир Богочеловеком — не случайно объединены союзом “и” в названии настоящей статьи.
Каждое из этих глобальных явлений христианской культуры в целом — чрезвычайно развитая система, и в исторической развертке каждое едва ли может быть смоделировано иначе, чем в виде дерева со множеством разветвлений. Корни и ветви этих двух “деревьев” причудливо переплетены. Поэтому задача их по-уровневого сравнения необычайно сложна, она для исследователя — нетронутое поле, которое еще только ждет своих делателей.
Поэтому, если нам удастся обратить внимание хотя бы на наиболее заметные моменты взаимного соприкосновения рассматриваемых феноменов христианской культуры, такие как их общее основание и момент, сегодня, пожалуй, наиболее актуальный — момент пробуждения интереса к этим двум ответам Церкви на извечное вопрошание человечества, то этого будет более чем достаточно.
В связи с этим пришел, наконец, черед коснуться уровня “самопознания” христианской культуры, достигнутого на рубеже XIX—XX вв. И здесь надо признать, что, при всех колебаниях, общее развитие философского инструментария дви-галось в сторону сближения с патристическим и библейским мышлением.
Основным предметом “самопознания” философии всегда была связь слова и смысла, текста и его содержания. В то же время, как уже говорилось, не слова и словесное сообщение было главным в проповеди Христа, хотя она осуществлялась не без участия слов. Для того, чтобы получить сообщение от иконографического образа, необходимо иметь пред-знание смысла этого сообщения, которое иначе, чем посредством слов, не передашь. То же самое относится к литургическому действию; больше того, здесь церковные установления не доверяют заранее сообщенному пред-знанию. В таинства и литургические действия внесен как обязательный элемент осмысляющий словесный текст. Поэтому словесной стороне Благой Вести, переданной Богочеловеком, в христианстве с самого начала придавалось очень большое значение.
Слова и речи Христа, записанные учениками и включенные в их Евангельские свидетельства (четыре из которых были приняты Церковью в священный канон), по характеру соответствуют всему библейскому аналогическому мышлению. Главный его признак: сравнение, метафора, образность. Эта дидактическая оптимизация библейских текстов спустя столетия, при смене характера мышления и психологической структуры мироощущения, неожиданно оказалась помехой для понимания. Вместе с утратой тех или иных этнографических и языковых реалий терялась естественная непроизвольность в восприятии метафор и символов именно в качестве таковых, а не как буквального сообщения, или наоборот, иногда библейским сообщениям приписывается метафорический и символический смысл там, где его изначально не было.
Довольно рано возникла потребность в интерпретации библейских текстов. Начиная со II—III вв. святые отцы Церкви разрабатывают герменевтические принципы истолкования Писания. Патристическое богословие выработало принцип, который можно обобощить как три операции:
1) принятие, рецепция Церковью той или иной книги в качестве Священного Писания, то есть формирование канона священных книг (книга могла быть принята в канон только в том случае, если полностью соответствует мистическому, то есть таинствосовершительному, ядру учения Церкви; большое число апокрифов было отвергнуто);
2) после того как книга была принята Церковью в канон, признана священной, на нее должны были распространяться все меры по бережному сохранению текста: тщательное копирование при каллиграфическом переписывании, а также применение текстуальной критики, сверки и проверки; эта вторая операция патристического метода относится уже к области чисто технической, хотя без богословского понимания нельзя отдать преимущество тому или иному разночтению;
3) наконец, последней важной составляющей метода патристического богословия было истолкование-проповедь, экзегеза содержания книги; здесь критерий очень простой: руководствуясь здравым рассудком, надо читать то, что написано, и не читать того, чего нет. Проблема в том, что все священные письмена обращены к имеющемуся уже у людей опыту богопознания, полученному прежде всего в евхаристической форме и только в Церкви. Внешне это — легкие и всем доступные требования. Но в мире, зараженном грехом, слишком часто оказывается так, что формальное участие в литургической жизни не обеспечивает механического возникновения подлинного опыта встречи с Богом. Причины здесь нравственного порядка. Увы, нравственное здоровье — относительная редкость. Об этом писал апостол Павел Тимофею: “Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям…” (1 Тим 6: 3—4). Поэтому любая экзегеза в патристическом богословии автоматически сверялась по своей “букве” с “духом”: насколько конкретное частное понимание священного текста соответствует общему Церковному Преданию, формирующемуся под непосредственным воздействием Святого Духа.
В Новое время, начиная с конца XVII в., появились новые, рационалистические мотивы изучения Библии, приняв которые, библеистика присвоила себе титул “научной” и встала в один ряд с другими позитивисткими науками. Естественно, что такая “научная” библеистика потеряла прежний предмет, служивший главной целью патристического богословия —Истину Благой Христовой Вести. Предметом научного интереса такой библеистики сделалась истинность, достоверность исторической действительности событий, о которых повествует Библия. В таком новом качестве библейская наука, разумеется, уже не может претендовать на право быть инструментом сверки того или иного понимания священных текстов с церковным знанием, сообщаемым Церкви непосредственно Духом Святым. Эта проверка — духовное, а не умственное действие, она — за пределами позитивистской методологии. Право сверки осталось за патристическим богословием, потому что его основным прямым источником помимо священных текстов как раз и является самосознание Церкви, выраженное в ее Предании.
Светские исследователи Нового Завета в XIX в. (в основном представители Новотюбингенской школы) считали своей главной задачей реконструкцию “подлинной” истории жизни Иисуса средствами литературной и исторической критики. Однако на самом деле они грубейшим образом попирали принцип историзма, поскольку нанизывали факты первохристианской истории на кантовские и гегельянские философские парадигмы. При этом они были наивно уверены в своей научной объективности, так как считали принятые ими философские принципы универсальным мировым законом.
XX век, начавшийся под знаком экзистенциальной философии, все же принес новый, достаточный для определения границ позитивисткого познания, уровень самопознания культуры мысли. Главный принцип экзистенциализма, утвер-ждающий противостояние явлений жизни (“экзистенции”) и логической системы, был сформулирован Кьеркегором еще в середине XIX в., но оформился в философское течение только после 1-й мировой войны[12]. Однако уже Кьеркегор, имея в виду, что экзистенция есть то, что всегда ускользает от абстрактного понимания, утверждал непременимость научного метода в самопознании человека.
Еще больше для самоограничения позитивистского познания принесло феноменологическое направление. Его основатель Эдмунд Гуссерль на первый план в познании выдвинул смысловую связь сознания и мира, которая возникает в потоке явлений-феноменов, причем для постижения смысловых связей в этом потоке безралично, относятся ли феномены-явления к миру вещей или к миру психического, потому что переживание смысла (значения) — такое же бытие, как и явление предмета[13]. Проявление сознания состоит не в очищении от предметов, но, напротив, в смысловом смыкании с предметом[14]. Мартин Хайдеггер переосмыслил феноменологический метод как метод своеобразного исследования экзистенции и описания реальности. В результате философствование у некоторых авторов сблизилось с литературно-художественным творчеством[15].
Еще одно философское направление XX в. имеет прямое отношение к нашей теме. Это — герменевтика. Самое общее в этом направлении философии — ориентация на истолкование, интерпретацию текста или “жизненного мира” (Lebenswelt у Гуссерля), в котором сознание субъекта неотделимо от явлений объекта. Главная проблема интерпретации была сформу-лирована еще в начале XIX в. Шлейермахером как герменевтический круг целого и его части. Так, для понимания целого необходимо понять его отдельные части, но для понимания отдельных частей уже необходимо иметь представление о смысле целого[16]. В отношении библейского мышления герменевтический круг заключается в том, что “сегодня” мы пытаемся понять смысл какого-либо сообщения, сказанного “тогда”, зная, что правильно оно может быть понято только в контексте суммы всех сообщений, каждое из которых в отдельности опять-таки остается непонятым. Хайдеггер считал, что задача герменевтики состоит не в размыкании герменевтического круга, а в том, чтобы в него войти, поскольку истолкование бытия человеком зависит от его самоистолкования. Человек должен понять то, внутри чего он с самого начала находится. Ганс Георг Гадамер пришел к выводу, что осмысление традиции и культуры — это само-осмысление человека или общества. Но понимание возможно только при условии укорененности в традиции, причастности к ее бытию как субъекта, так и объекта познания[17].
Достижения общего самопознания гуманитарной культуры немедленно отразились в науке о Библии. Ее главная задача была сформулирована как описательное изучение библейского мышления (descriptive study of biblical thought). Как основной метод изучения был принят принцип сопереживания. Это значит, — чтобы исследователю понять и правильно описать библейское учение, ему надо войти в него, сжиться с ним, почувствовать и сопережить[18].
Так в светской библеистике произошла смена предмета научных исследований. В качестве предмета науки вместо исторической достоверности тех или иных фактов Библии было принято мироощущение, запечатленное в библейских книгах, мышление писателей этих книг, отраженное в их текстах, и мышление читателей, которым они были адресованы. Задача науки была переосмыслена как описание этого мышления в его элементах (различных понятиях и концепциях) и в целом как системы. Место ведущей дисциплины, изучающей Библию, заняло Библейское богословие, имеющее предметом библейское мышление.
Произошла функциональная “конвергенция”, сближение в разных плоскостях метода “научной” библеистики с методологической задачей патристического богословствования. Как отцы “золотого века” искали наиболее точные формулировки для выражения того или иного элемета Евангельского учения, так и описательная задача новейшей библейской науки требует передачи библейских понятий и элементов библейского мышления в системе категорий мышления современного. В обоих случаях техническое ядро метода — это экзегеза, истолкование, пересказ идей, выраженных в системе одного мышления, на другом языке и в другой системе мышления, которые более понятны современникам. В первом случае: выражение Библейского Откровения — в категориях неоплатонической филосо-фии и аристотелевской логики; во втором: библейского мышления — средствами экзистенциального мышления XX в.
Описательный метод сегодняшней западной библеистики имеет несомненное достоинство — направленность на экзегезу, интерпретацию и через это на проповедь и распространение библейского учения. В некотором смысле современная “науч-ная” библеистика сблизилась по своей функции с церковным учительством. Но между библейской наукой и самосознанием Церкви все равно остается непроходимая пропасть. Вполне конфессиональные по западным меркам библеисты считают, например, что когда в XX в. был переосмыслен предмет научной библеистики и вместо исторического факта им стало мироощущение и мышление людей, тогда при решении задачи описания библейского мышления стерлась грань между верующим ученым и неверующим агностиком: “Преимущество верующего в том, что он уже сопереживает верующему писателю священного текста, но при этом у него возникает искушение модернизации материала. Агностик в этом смысле имеет преимущество, но ему необходимо проникнуться сильным чувством сопереживания настроениям верующего I века.”[19] Понятно, что при таком подходе не ведется и речи о какой-либо проверке реконструированного библейского учения не только патристическим богословием, но даже систематической догматикой. Так западная церковная библеистика незаметно переродилась во “внеконфессиональную”.
Неожиданный вираж, сделаный самопознанием философской культуры в XX в., подтолкнул к не менее головокружительному виражу русскую богословскую мысль (к сожалению — по известным историческим причинам — лишь только в эмиграции). Переболев схоластическим пленом Запада в XVIII—XIX вв., русская богословская наука наконец осознала главным предметом своего изучения патристическое церковное Предание — то, что собственно хранит и передает Церковь по слову апостола Павла: “…храни преданное тебе” (1 Тим 6:20).
Но еще перед самой революцией в русском академическом богословии казался неистребимым стереотип, проникший с Запада и состоявший в том, что Предание — это такой же сло-весный текст, как Писание, только вначале передававшийся устно, а потом все равно записанный, и — не более[20]. Почему католики и протестанты не увидели в Предании самосознания Церкви, имеет свое объяснение. Мышление католиков укоренено в том, что они получают критерий распознания истинного учения не в Предании, а от преемника апостола Петра, Римского епископа. Папа Римский обладает непогрешимостью, когда он ex cathedra с коллегией епископов провозглашает истину[21]. Между тем в Православии функция епископа в отношении вероучения сохранилась ближе к первоначальной, какой она была в апостольские времена. Епископ — не действующая и даже не инструментальная причина истины, он не творит и не провозглашает ее, он только наблюдает (episkopeo) за тем, чтобы в народе Божием истина не замещалась лжеучениями. К самой же истине он имеет отношение не более, чем любой другой член Церкви. Источником Истины и ее проводником в Церкви является не иерархия, но Дух Святой. С другой стороны, Дух Святой действует в Церкви не в безблагодатной пустоте каждый раз заново, не оставляя следов Своего действия, как утверждают протестанты[22].
Вслед за западным схоластическим богословием русская академическая наука подтверждала тезис о Предании как незаписанном вероучительном тексте цитатами из святых отцов; одно из первых мест при этом обычно занимает цитата из Книги “О Святом Духе” свт. Василия Великого: “Из догматов (dógmata) и проповеданий (kerygmata), соблюденных в Церкви, иные имеем в учении, изложенном в Писании, а другие, дошедшие до нас от апостольского Предания, приняли мы в тайне. Но те и другие имеют одинаковую силу для благочестия”[23]. Протоиерей Георгий Флоровский, много потрудившийся не только в области истории русской богословской мысли, но и для патрологии, так комментирует это место: “На первый взгляд может показаться, что святитель Василий Великий признавал… наряду с Писанием неписанные Предания”. Догматы, то есть всю совокупную систему христианской жизни, включая богослужение и Евхаристическую жизнь, как пишет св. Василий Великий, приняли “enmy”, что обычно переводят “в тайне”. Но это неверный перевод, утверждает отец Георгий Флоровский, единственно верное понимание enmy может быть только “путем таинств”. То есть это означает: “догматы и проповедания… приняли” в виде образов и богослужебных обычаев[24]. В этом случае полностью меняется смысл последующей конкретизации догматов святителя Василия Великого: крестное знамение, молитвы на Восток, евхаристическая формулировка, освящение елея — все это dógmata, то, что передается путем таинств. Обряды и символы, которые приводит св. Василий Великий — все являются способами сообщения готовящимся к Крещению правила веры, то есть они и есть та форма, в которой заключено Предание.
Литургический календарь, богослужение, каноническая регламентация, святоотеческая письменность, произведения церковного искусства (храмы, иконы, певческая традиция), святые мощи — все это реальные результаты действия Святого Духа в Церкви и все это является различными формами проявления Церковного Предания.
Итак, открытие того, что православная икона имеет свой изобразительный язык, практически совпало с открытием того, что этот иконографический язык является одной из форм Предания, одним из выражений самосознания Церкви.
Собственно, основной словарь языка иконы составил еще Е. Н. Трубецкой в своих трех очерках о русской иконе. Икона совмещает аскетизм, скорбь вместе с необычайной пасхальной радостью, выраженной в ее ярких праздничных красках[25]; в иконе через внешнюю неподвижность фигур праведников выражается глубокое внутреннее горение духа, и наоборот, в тех редких случаях, когда изображены грешники, их движения стремительны и подвижны[26]; икона состаляет неразрывное целое с храмом, она наделена особой архитектурностью[27]; в гамме цветов иконы каждый цвет имеет свой смысл[28]; золотой “ассист” в иконе выражает Божественную славу[29].
Отец Павел Флоренский в “словарь” языка иконы добавил еще одну важную, открытую им особенность, — обратную перспективу[30]. И, хотя современный богослов, исследователь церковного искусства Л. А. Успенский оспаривал правомерность этого термина, — надо константировать, что уже поздно, он стал “крылатым”, как “умозрение в красках” Трубецкого. Но в природе, строго говоря, нет перспективы, обратной перспективе линейной. Жесткому закону линейной перспективы противостоит не обратная перспектива, а иной закон, иной принцип построения образа[31]. Этот принцип дает особенно много пищи для размышлений и исследования математикам[32]. Кроме того, отец Павел Флоренский исследовал технологию иконописания и показал, что изготовление доски, нанесение красок и все, что сопутствует писанию иконы, литургично и в силу этого причастно к иной реальности[33].
Художественный язык иконы — это язык Церкви, и поэтому он огражден церковным каноном. Однако собственно в канонических постановлениях оговорены только общие правила жизни иконописцев, требующие сопричастности тому, что они изображают. Но каноном является также вся изобразительная система иконографии, которую невозможно заключить в рамки церковных определений[34]. И так же, как толкование Библии вне Предания, вне Церкви является по учению святых отцов заведомо неверным[35], потому что понимание учения Христова — это не умственное действие, но акт сопричастности, точно так же икона не может быть понята вне литургического созерцания. Л. А. Успенский говорит, что объяснить икону чисто эстетически или рационально невозможно. Явленный человеку в иконе опыт божественной жизни научному анализу недоступен. Наука занимается в ико-не периферийной областью: художественной стороной произведения, построением образа, влияниями, заимствованиями, социально-историческим контекстом.
Итак, самопознание экзистенциальной философии, феноменологии и философской герменевтики XX в. привело к установлению границ и возможностей рационального научного познания. В ранг научного метода возведено сопереживание при итерпретации священного текста или изображения. Православная богословская наука также, со своей стороны, осознала, наконец, предмет своих исследований. Ее предмет —Церковное Предание в многообразии его форм. Но всякое рациональное позитивистское изучение всех форм Предания, и в том числе, библейского содержания и иконографии, неспособно проникнуть глубже поверхности. Подлинное познание возможно только через глубокую причастность к той церковной традиции, которая является средой жизни тех или иных явлений христианской культуры. В этом, в результате многовековых исканий, пришли к согласию и христианское “умозрение”, и секулярная философия XX в.
[1]См.: Лазарев В. Н. Русская средневековая живопись. М., 1970, с. 7.
[2]Для подтверждения достаточно обратиться к наиболее популярным словарям. См., например, Даль В., Толковый словарь живаго великорусскаго языка. СПб., М., 1882, с. 496: “заключенье умственное, по умствованью, догадка ума, мыслительный вывод, теория, пртвпл. опыт, дело, практика, насущность. Умозренья могут быть весьма ошибочны.”; Ожегов С. И. Словарь русского языка. Стереотипное изд.: “рассуждение, основанное на созерцании, размышлении, не основанное на опыте.”
[3]См. также Греческо-русский словарь, составленный Вейсманом А. Д. Репринт 5-го изд. 1899 г. М., 1991, с. 606. В Древней Греции Jewria— созерцание священных состязаний, посвященных богам.
[4]Д. С. Лихачев разработал понятие “литературного этикета”, которое позволило ему и его последователям достичь более глубокого погружения в мир древнерусской литературы, проникнуть в характер и мотивацию творчества древнерусского писателя-книжника. См.: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1971, с. 95‑123; Он же. Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России. Система литературных жанров древнерусской литературы. и др. статьи в кн.: Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986.
[5]С. С. Аверинцев называет книгу Д. С. Лихачева “Поэтика древнерусской литературы” классическим образцом научного жанра; свою монографию “Поэтика ранневизантийской литературы” (М., 1977) он заявляет как попытку работать в том же жанре, но на ином материале (с. 5). Его исследование древнерусского материала см. в слл. и др. публикациях: К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской // Древнерусское искусство. Художественная культура домогольской Руси. М., 1972; Славянское слово и традиция эллинизма // Вопросы литературы. 1976, № 11.
[6]Философия русского религиозного искусства. М., 1993, с. 9.
[7]Малахов В. С. Гадамер Ханс Георг // Современная западная философия. Словарь, с. 68.
[8]Прот. Александр Шмеман. Евхаристия. Таинство Царства, с. 47.
[9]Архимандрит Зинон. Беседы иконописца. Новгород, 1993, с. 36.
[10]Там же, с. 43.
[11]Там же, с. 38.
[12]Киссель М. А. Экзистенциализм // Современная западная философия, с. 388.
[13]Гуссерль. Э. Феноменология. Статья в Британской энциклопедии, пер. с англ. (The Encyclopedia Britannica. 14-th ed., v. 17, pp. 699—703.) // Логос, 1991, № 1.
[14]Молчанов В. И. Феноменология // Современная западная философия, с. 319.
[15]Киссель М. А. Экзистенциализм // Современная западная философия, с. 389.
[16]Малахов В. С. Герменевтический круг // Современная западная философия, с. 76.
[17]Малахов В. С. Гадамер // Современная западная философия, с. 68.
[18]Stendahl K. Biblical theology contemporary. The Interpreter’s Dictionary of the Bible. An Illustrated Encyclopedia in four volumes. Nashville, 1962, v. 1, p. 418.
[19]Stendahl K. Ibid, p. 422.
[20]Вера и жизнь христианская по учению святых отцов и учителей Церкви. Вып. II, О Священном Писании и Священном Предании. Сост. Сагарда Н., Пг., 1915.
[21]Священный Вселенский Ватиканский собор II. Догматическое постановление о Церкви. Tipographia poliglotta Vaticana, 1966: “Римский Первосвященник, глава коллегии Епископов… провозглашает окончательным решением учение о вере и нравственности… А когда или Римский Первосвященник, или весь состав Епископов с ним определяют доктрину, то они провозглашают ее соответственно самому Откровению (Гл. 3, 25, с. 30).
[22]По словам современного евангелического богослова Г. Кречмара, участвовавшего в признанном историческим православно-евагелическом диалоге “Арнольдсхайн-I” в 1959 г., “Реформация основывается на догмате Церкви и принимает его не потому, что эти положения были установлены законными Вселенскими соборами, но потому, что они соответствуют слову Божию… Меланхтон и поколение, следующее за Лютером, ссылались на “свидетелей истины” — греческих и латинских отцов”. Однако их “ценили не как решающий источник богословского познания, но как подтверждение того… что реформация является не “нововведением”, а восстановлением древней церковной веры” // БТ, сб. 4, М., 1968, сс. 229—230.
[23]Свт. Василий Великий. О Святом Духе к Амфилохию, епископу Иконийскому. Гл. 27. Творения. Т. 1, Спб, 1911, с. 631—632
[24]Прот. Георгий Флоровский. Писание и Предание с православной точки зрения. Пер. с англ. (Dialog, vol. 2, Autumn 1963, pp. 288—293) // ВРЗ-ЕЭ, 1964, № 45, с. 62.
[25]Князь Евгений Трубецкой. Три очерка о русской иконе. Умозрение в красках. Два мира в древне-русской иконописи. Россия в ее иконе. М., 1991, с. 13.
[26]Там же, сс. 16—17.
[27]Там же, сс. 19—21.
[28]Там же, сс. 47—48.
[29]Там же, сс. 49—55.
[30]Флоренский П. Обратная перспектива // Труды по знаковым системам. Тарту, 1967, сс. 384—392.
[31]Успенский Л. А. Богословие иконы православной церкви. Издательство Западно-Европейского Экзархата. Московский Патриархат. 1989, с. 422.
[32]См.: Раушенбах Б. В. Пространственные построения в древнерусской живописи. М., 1975.
[33]См.: Флоренский П. Иконостас // БТ, сб. 9. М., 1972.
[34]Успенский Л. А. Богословие иконы православной церкви, с. 428.
[35]Архим. Иларион (Троицкий). Священное Писание и Церковь // Голос Церкви. 1914, № 3, с. 21 (отд. отт.).
Опубликовано в альманахе “Альфа и Омега”, № 3, 1994