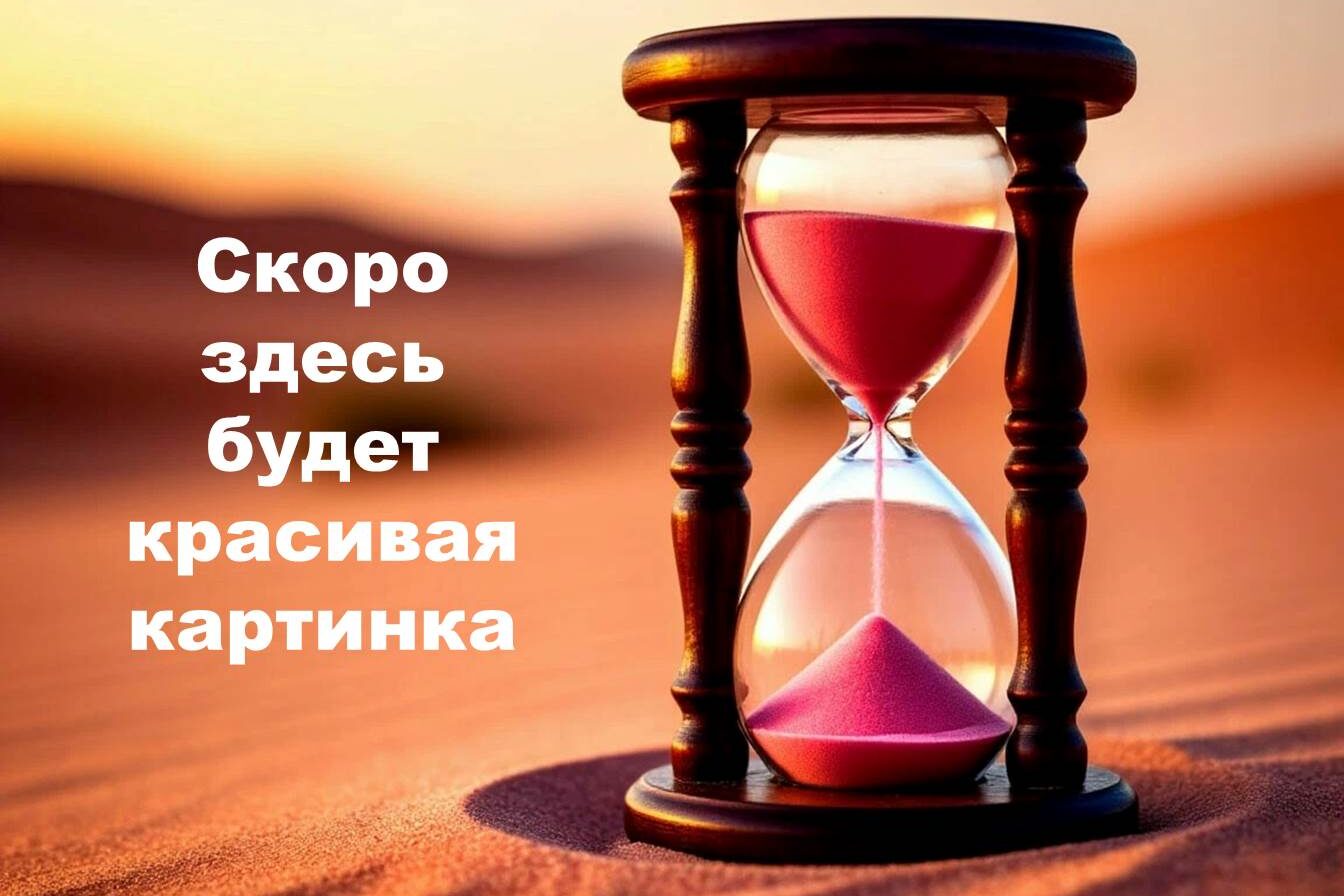Татьяна Миллер
В нашем представлении IV век по Р. Х. — это прежде всего век триумфальной победы христианства. Без малейшего применения физической силы, вооруженные одной только твердой, непоколебимой верой и чистой совестью последователи Христа, пережив столетия гонений, сломили официальную монополию язычества: их учение стало сначала дозволенным (Миланский эдикт 313 г.), затем привилегированным и, наконец, получило статус официальной религии римской империи. Именно в этот период Церковь четко сформулировала сущность православного Богопочитания в своем Никео-Цареградском Символе веры, а в богословии Великого Афанасия был раскрыт смысл Боговоплощения как обожения человека: “…посредством уничиженного явлено нам божественное, — заявлял он, — через смерть распростерлось на всех бессмертие, и чрез вочеловечение Слова дознаны и промышление о всех и Содетель и Зиждитель оного — само Божие Слово. Оно вочеловечилось, чтобы мы обожились; Оно явило себя телесно, чтобы мы приобрели себе понятие о невидимом Отце; Оно претерпело поругание от людей, чтобы мы наследовали бессмертие”1. Однако доступность и открытость Церкви и высота ее идеалов еще не делали вчерашних язычников исполнителями евангельских заповедей. В церковную ограду хлынула толпа, но путь в Царство небесное оставался тесным и узким. Миновала угроза пыток и допросов, пришла угроза профанации всего святого невеждами, для которых богословские вопросы превращались в предмет базарных перебранок. До нас доносится жалобный голос православного иерарха тех лет, святителя Григория Богослова: “Я сказал, а они кричали, каждый свое. Это было то же, что стая галок, собравшаяся в одну кучу, буйная рабочая толпа молодых людей, вихрь, клубом подымающий пыль, бушевание ветров <…> Они походили на ос, которые мечутся туда и сюда и вдруг бросаются прямо в лицо <…> подобно грибам вдруг вырастают из земли и мудрецы, и военачальники, и благородные, и епископы, хотя и не потрудились прежде на свою долю над чем-либо добрым <…> Надо отсечь, как общий недуг, лишние и бесполезные вопросы, пустившие ныне столько отпрысков и ветвей”2.
“Надо думать, — замечает архим. Киприан Керн по поводу вышеприведенных цитат, — что эта “забава богословствовать”, которою недуговали многие и многие малоподготовленные, а к тому же совершенно непризванные дилетанты, и была одной из причин, а может быть и главнейшей причиной того, почему свт. Григорий был так осторожен и сдержан в писании. Казалось бы, при таком одурманенном состоянии умов, когда всякий профан считал себя авторитетом, когда святое искусство богословствования было вынесено на улицу и тем профанировано, необходимо было раздаться голосу вескому, спокойному, умудренному в проповедуемой истине. Казалось бы, что умам, подобным свт. Григорию, и надо было бы сказать свое слово <…> но он этого не сделал и не делал вообще”3.
Перед Церковью с небывалой остротой продолжала стоять задача миссионерства. Не было теперь препятствий для открытой проповеди, но разрушить языческие капища несравнимо легче, чем насадить христианство в души людей, которые уже не рисковали жизнью ради новой религии, ради тех сокровищ благодати, которые она давала им, а принимали ее из соображений удобства, выгоды, престижа. Церковь не могла от них отмахнуться, обособиться, стать элитарной, ей предстояло их перевоспитать. Для этого прежде всего надо было объяснить им Священное Писание Нового и Ветхого Завета и сделать это с любовью к слушателю, с пониманием его привычек, умонастроений, культуры. Промыслом Божиим жребий этого подвига пал на клирика Антиохийской Церкви Иоанна, впоследствии патриарха Константинопольского, всем нам хорошо известного под именем Иоанна Златоуста. Память его торжественно чтится вместе со столпами Православия свтт. Василием Великим и Григорием Богословом в день Трех Святителей (30.I/12.II), и это дает нам право искать глубинный богословский смысл в самом использовании Златоустым изящного красноречия. Его проповеди (беседы-гомилии) подчас кажутся многословными, растянутыми, трудно дочитать их до конца, найти в них главное ядро, поэтому нередко их издают в укороченном виде, отбрасывая “излишнее” обрамление4. Однако святитель обращался не к нам, а к своим современникам и учитывал прежде всего их способность восприятия его живого слова. Попробуем и мы вникнуть в ход его речи, чтобы понять его богословие.
Экзегетическое наследие Златоуста — это беседы-толкования на книги Нового и Ветхого Заветов, произнесенные в основном в последнее десятилетие IV века в процветающей малоазийской Антиохии, городе со стотысячным христианским населением. Главное место в этом наследии занимают 90 бесед на Евангелие от Матфея и 88 бесед на Евангелие от Иоанна. В него входят также беседы на послания ап. Павла к римлянам, коринфянам, галатам, ефесянам, к Тимофею и Титу, беседы на книгу Бытия, на Псалмы, на книгу пророка Исайи. Толкования недаром составлены в форме бесед. Как никто другой, антиохийский проповедник умел войти в контакт с аудиторией, постоянно держа слушателя в поле зрения и к нему направляя свое слово. И трудно понять текст Златоуста, не имея понятия о вкусах его слушателя. Грек той эпохи любил выступления модных ораторов, как сейчас любят модные фильмы. Талант оратора заключался в умении сказать необычно, по-новому о хорошо известном. Он владел манерой выражаться, которую принято называть риторикой: она развилась из древних судебных диспутов и затем вошла в школьное обучение как искусство убеждать и обобщенно изображать действительность. Ритора можно сравнить с тем, кто, стоя на вершине горы, обозревает ее подножие: ему видны очертания предметов, он видит комплекс предметов как целое и усматривает связи и соотношение между ними, но не различает их индивидуальных особенностей. Для риторической речи характерно стремление сопоставлять и противопоставлять, наблюдать сходство и различие, строить фразы в форме антитез и параллелизмов и соответственно располагать слова и звуки. Нет надобности повторять, что свт. Иоанн Златоуст, ученик знаменитого оратора Либания, блестяще владел этой словесной техникой.
В устах антиохийского проповедника искусство красноречия превращалось в служанку богословия, в средство для раскрытия глубинных истин христианства. В качестве примера такой христианской риторики мы позволим себе проанализировать пятнадцатую беседу (гомилию) на Евангелие от Матфея. Темой беседы служит евангельский текст: “Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное” (Мф 5:1–3). В отличие от большинства толкователей Златоуст не проходил мимо бытовых реалий евангельского повествования и не объяснял их иносказательно в духе Оригена. В земной жизни Сына Божия, нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего с небес и воплотившегося, важна любая деталь в своем прямом буквальном смысле, будь то место проповеди или личность тех, кто ее слушал. В приведенном евангельском тексте все сказано очень сжато, ничто не акцентировано, но проповедник-ритор знает, как овладеть вниманием паствы, в какую сторону его направить. Он восклицает: “Смотри, какое отсутствие честолюбия и хвастовства! (“Ora tХ ўfilТtimon ka€ ўkТmpaston). Этими словами интерес слушателя, его мысленный взор обращен на внутренний смысл события, на свойство Богочеловека, являющее себя в Его поступке. Единичный акт: “Он взошел на гору” включен затем Златоустом в целостную панораму всех мест, посещавшихся Спасителем, противопоставлен им и истолкован как назидание для каждого человека: “Он не водил их за Собой, но когда нужно было врачевать, Сам ходил повсюду, посещая грады и веси, а когда собралось великое множество, садится на одном месте, не в городе, не среди площади, но на горе, в пустыне, — научая тем нас ничего не делать напоказ, удаляться от шума, особенно когда нужно любомудрствовать и рассуждать о важных предметах” (Беседа 15, 1, 223)5. Христианскому оратору интересны не только гора, на которой произнесены были Заповеди блаженства, но и люди, при этом присутствовавшие. С тонкой наблюдательностью он противопоставляет толпу с ее жаждой чудес ближайшим ученикам, способным воспринимать вещи более возвышенные и глубокие: “Когда взошел Он и сел, приступили ученики. Видишь ли, как они успевают в добродетели и как скоро сделались лучшими? Народ смотрел на чудеса, а ученики хотели уже слышать что-либо высокое и великое” (Там же).
Эта экспозиция места и действующих лиц необходима проповеднику как прелюдия к его богословскому рассуждению. Игра антитезами, столь приятная уху слушателя, не перерастает у него в контрастное противопоставление, напротив, она подготавливает почву для провозглашения идеи единства и универсализма как непременного постулата веры во Христа. Подобно тому, как города, села и пустынная гора при всем своем несходстве имеют общее свойство, ибо они суть места, посещавшиеся Спасителем, так и люди, окружавшие Его, при всем своем различии стали объектом внимания с Его стороны. Это внимание было направлено на разные аспекты бытия — на тело и на душу, и Златоуст опровергает этим фактом ересь дуализма, утверждая, что Бог есть Творец целостного живого существа: “Он не только исцелял тела, но и врачевал души и опять от заботы о душах переходил к исцелению тел, разнообразя пользу и соединяя с учением словесным явление знамений. И этим попечением о той и другой вещи (˜katљraj oЩs…aj) Он заграждает бесстыдные уста еретиков, показывая, что Сам Он есть Творец целостного живого существа (Рlokl»rou toа zуou aЩtТj ™sti DhmiourgТj)” (Там же).
Современный читатель скорее всего не расслышит полемической интонации этих слов, а между тем в этой фразе затронута основа основ православной антропологии. Пройдет около тысячи лет, и религиозная общественность Востока и Запада будет взбудоражена спором святогорца Григория Паламы с калабрийцем Варлаамом. В этом споре о сущности исихазма и Фаворском свете речь пойдет о способности человека постигать Бога: весь ли человек в целом становится причастником Божественной благодати или какая-то часть его — ум, душа или тело. В IV веке Иоанн Златоуст приучал свою паству смотреть на человека теми же глазами, что и святитель Григорий, однако духовный уровень шумных антиохийцев и священнобезмолвствующих афонских монахов был несопоставим, соответственно и учение о человеке у обоих богословов принимало своеобразную форму. Если защитник православия в XIV веке рассматривал вопрос о восприятии человеком Бога (о нетварности Фаворского света), то антиохийский проповедник разъяснял своим слушателям, как Бог относится к людям, как Он близок к ним. И свидетельство этой близости — не священный плач и покой внутренней молитвы, а поведение Богочеловека во время Его земной жизни, Его отношение к телесным и духовным нуждам людей, к невежественной толпе и ближайшим ученикам. Оказывается, Он никого не отвергал, Его действия распространялись в равной мере на душу и на тело притекающих к Нему: “Он проявлял большое попечение о той и другой природе (pollБj ˜katљrv tН fЪsei meted…dou prono…aj (то есть о теле и душе — Т. М.)), исправляя то одну, то другую” (Там же). В этом двуединстве деятельность Спасителя показана как всеобъемлющая, всеохватывающая. Ее универсальный характер проявляется и в том, в какой форме она ведется (не только словом, но и делами), и в том, к кому она обращена (не только к “своим”, но и ко всем): “«Отверзши, — говорит евангелист, — уста Свои, учил их». Для чего это прибавлено «Отверзши уста Свои»? Чтобы ты познал, что Он учил их даже и тогда, когда молчал, не только — когда говорил; учил, то отверзая уста Свои, то вещая делами Своими. Когда же ты слышишь слова «учил их», не думай, что Он говорит только к ученикам Своим, но что чрез учеников говорит и ко всем” (Там же).
Перед антиохийским пастырем стояли любители и почитатели его изящного слога; сегодня они в храме, завтра побегут на ипподром, в театр, вернутся к своим житейским делам. Его задача — донести до них весть о Том, Кто пришел не праведников, а грешников спасти, Кто бросает девяносто девять овец и идет искать одну пропавшую. Повторяющийся мотив беседы Златоуста — это мысль, что Божественный Учитель никого не отвергает — ни толпу, ради которой Он творит чудеса, ни ближайших учеников: мало того, даже когда Он обращается непосредственно к апостолам, Он строит речь так, чтобы ее могли слушать и понимать невежды, чтобы она не вызвала у них отвращения. Легко догадаться, что под толпой христианский проповедник имел в виду также и свою паству: “Но так как толпа была необразованна, состояла из людей, еще пресмыкавшихся долу, то Он, собрав пред Собою учеников, обращает к ним речь Свою и в беседе с ними так говорит, что учение мудрости делается занимательным (ўnepacqБ — букв. ‘нетягостным’) и для всех прочих, которые были почти совершенно неспособны Его слушать” (Там же).
Этими словами завершается вступительная часть Беседы, иллюстрирующая ее начальный возглас “Смотри, какое отсутствие честолюбия и хвастовства” и рисующая человеческий лик Христа Спасителя. Внимание толкователя переключится затем на содержание Его Нагорной проповеди. Новая тема вводится риторическим вопросом “Откуда Он начинает и какие полагает основания нового жизненного устройства (tБj kainБj polite…aj)?”. Употребленный здесь термин “полития” означал для грека и гражданство, и государство (именно так называлось “Государство” Платона), и общественное устройство; в послеклассическую эпоху им называли и жительство монахов. В устах проповедника, который обращался к тем, чьи отцы и деды жили в эпоху господства язычества, к тем, кому еще только предстояло строить христианизированное общество, слова о новой политии, о новом жительстве звучали как намек на обновление общества, на его христианизацию, а не на бегство из него. Отсюда и некоторые особенности толкования Заповедей блаженства у Златоуста: он находит в них то, что касается не только духовного, но и чувственного бытия человека — богатства, бедности, справедливости.
Человек эллинской культуры знал, что цель его жизни — счастье. Антиохийский проповедник раскрывал своей греческой пастве условия человеческого блаженства, понятого отнюдь не в духе античной философии. Он приковывал внимание слушателя к евангельскому тексту, заведомо отказываясь от релятивизма, упорно настаивая на том, что сказанное Спасителем обращено ко всем, к каждому человеческому существу, к самому слушателю, что блаженство доступно всем людям независимо от их социального положения и культуры: “Говорено было к ученикам, а написано для всех, которые будут после них <…> слова Его имеют большое отношение и к тебе и ко всему роду человеческому (prХj tѕn fЪsin dќ ¤pasan tѕn ўnqrwp…nhn). Не сказал: такой-то и такой блажен, — а все так поступающие блаженны, так что хотя бы ты был рабом, бедняком, нищим, бесприютным, необразованным, нет никакого препятствия к тому, чтобы быть тебе блаженным, если будешь иметь эту добродетель” (Беседа 15, 1–2, 223–224).
Отвечая на поставленный им риторический вопрос (см. выше), Златоуст наибольшее значение придавал первой заповеди блаженства Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. “Нищие духом” — это смиренные (tapeino… — букв. ‘уничиженные’), смиренные по собственной воле, по внутреннему выбору, а не в силу внешних бед. Смирение — это то чувство, которое в Библии называется “сокрушенным сердцем”, и ссылки на библейских пророков свидетельствуют, сколь оно угодно Богу. Оно не просто богоугодное чувство, оно — антипод того духовного устроения, которое есть источник зла во вселенной. Златоуст называет его словом безрассудство (ўpТnoia). Именно оно сделало диавола диаволом, привело к грехопадению Адама и его потомков. Смирение призвано восстановить утраченный истинный порядок вещей: “Так как, следовательно, гордость (безрассудство) — есть верх всех зол, корень и источник всякого нечестия, то Спаситель и приготовляет врачевство, соответствующее болезни, полагает этот первый закон как крепкое и безопасное основание. На этом основании с безопасностью можно созидать и все прочее. Напротив, если этого основания не будет, то хотя бы кто до небес возвышался жизнью, все это легко разрушится и будет иметь худой конец. Хотя бы кто отличался постом, молитвою, милостынею, целомудрием или другою какою добродетелью, все это без смирения разрушится и погибнет” (Беседа 15, 2, 224, 225). Со времен классической Эллады (V–IV вв. до Р. Х.) греческое сознание привыкло считать нормой поведения индивида в обществе канон четырех добродетелей (мужество, благочестие, справедливость, благоразумие). Христианский проповедник предлагал другую мораль, которая соотносила человека с Богом, а не с обществом: резкостью антитезы, рифмой перекликающихся концовок, отчеканивая каждый звук, он давал ощутить несовместимость гордого безрассудства и смиренномудрия, зла и мудрости: “как гордость есть источник всякого нечестия, так смирение есть начало всякого благочестия (йsper g¦r № ўpТnoia phgѕ kak…aj ЎpЈshj ™stin, oЫtwj № tapeinofrosЪnh filosof…aj ЎpЈshj ўrc»)” (Там же, 225). Первая заповедь о смирении — это вызов всему погрязшему во зле человечеству; столь же необычна, несовместима с общепринятым мнением, парадоксальна и вторая заповедь Блаженны плачущие ныне, ибо они утешатся. По словам Златоуста, она противоречит мнению целой вселенной (tН tБj o„koumљnhj y»fJ): “В самом деле, тогда как все почитают блаженными радующихся, а сетующих, бедных, плачущих — несчастными, Он вместо первых называет блаженными последних, говоря так «блаженны плачущии», хотя все почитают их несчастными” (Там же). Как и при толковании слова смиренные, Златоуст конкретизирует понятие плачущие, указывая, что тут подразумеваются плачущие о грехах, и для разъяснения, какова должна быть сила этого чувства, ссылается на пример тех, кто оплакивает потерю родственников: “В самом деле, если тот, кто оплакивает смерть детей, жены или кого-нибудь из родственников, в это время скорби не увлекается ни любовью к богатству и плоти, ни честолюбием, не раздражается обидами, не снедается завистью, ни другой какой-либо предается страсти, а бывает всецело поглощен скорбью, то не гораздо ли более покажут свое бесстрастие относительно всего этого те, которые подобающим образом оплакивают грехи свои?” (Там же, 3, 226). Суровость заповеди уравновешивается сладостью награды, любовью Бога к человеку: Блаженны плачущие, ибо они утешатся. “Скажи мне, где они утешатся? — восклицает Златоуст, — И здесь и там. Так как эта заповедь была слишком тяжка и трудна, то Он обещает то, что наиболее могло бы облегчить ее. Итак, если хочешь иметь утешение — плачь. И не почитай этих слов иносказательными. Подлинно, когда Бог утешает, то хотя бы тысячи горестей с тобой случились, все победишь, потому что Бог всегда награждает труды с преизбытком” (Там же). И подобно тому, как заповедь о смирении объявлялась доступной для всех, заповедь о плаче содержит требование оплакивать не только свои, но и чужие грехи: “А плакать нам повелевает не о своих только грехах, но и о грехах других. Так поступали святые, как то Моисей, Павел, Давид” (Там же).
В соответствии с основной мыслью вступительной части Беседы о том, что Христос с одинаковой заботой врачевал и душу и тело, Златоуст и в Заповедях блаженства раскрывал то, что относится не только к духовной, но и к чувственной жизни человека. Так, толкуя третью заповедь Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, он предлагал понимать землю в буквальном смысле как чувственную награду (a„sqhtХn њpaqlon), ссылаясь на слова апостола Павла и Самого Христа, которые, говоря о воздаянии, упоминали и о вещах чувственных. Заповедь направлена против бытующего мнения, будто кроткий может лишиться своего имущества. Нет! — возражает проповедник: “Христос обещает противное, говоря, что он-то безопасно и владеет своим имуществом: он ни дерзок, ни тщеславен; кто же, напротив, будет таковым, тот лишится и отцовского имения и самой жизни” (Там же, 227). И снова звучит знакомый мотив: “Когда Он говорит о чем-нибудь духовном, то не отвергает и выгод настоящей жизни; равным образом, когда обещает что-нибудь в здешней жизни, то этим еще не ограничивает Своего обещания. «Ищите, — говорит Он, — Царствия Божия, и это все приложится вам» (см. Мф 6:33)” (Там же).
В том же духе толкуется и четвертая заповедь Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Под ‘правдой’ — dikaiosЪnh — подразумевается свойство, противоположное корыстолюбию (pleonex…a), и обещанная чувственная награда (насытятся) должна опровергнуть ходячее представление о том, что к материальному благополучию ведет стяжательство: “Вникни в то, с какою силою Он выразил Свою заповедь! Он не сказал: «блаженны те, которые ищут правды», — но — «блаженны алчущие и жаждущие правды», внушая этим, чтобы мы не как-нибудь, но с полным рвением стремились к ней. А как полное рвение имеют корыстолюбцы, и мы не столько любим есть и пить, сколько приобретать все больше и больше и избыточествовать, то Он повелел это рвение перенести на нелюбостяжание. И Он снова предлагает чувственную награду: «Ибо они насытятся». Из-за того, что большинство людей полагает, будто корыстолюбие приносит им благополучие, Христос говорит, что все обстоит наоборот, ибо благополучными делает правда (dikaiosЪnh). Значит, поступая справедливо, не бойся нищеты и не страшись голода” (Там же, 4, 227). По мысли Златоуста, четвертая заповедь предвосхищает собой пятую (Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут), указывая, что милостыню надо подавать не из награбленного, не из нажитого корыстолюбием (oЩdќ ™k pleonex…a). Проповедник не входит в подробное рассмотрение пятой заповеди, ограничиваясь общими словами о том, что милостыня должна твориться не только деньгами, но и делами, что виды ее разнообразны и заповедь эта широка, а награда за нее весьма высокая, поскольку милость, получаемая от Бога, несоизмерима с человеческой милостью. Столь же бегло обозревает Златоуст и остальные заповеди блаженства. Шестая заповедь, Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, подчеркивает важность целомудрия. В седьмой, Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими нарекутся, не только устраняется взаимное несогласие и ненависть, но требуется от людей нечто большее — чтобы они примиряли несогласия других, и за это им обещана духовная награда: “они будут названы сынами Божиими, потому что и Сам Единородный Сын Божий соединял разделенное и примирял враждующее” (Там же, 4, 228).
Две последние заповеди показывают судьбу тех, кто воплотил в себе всю добродетель, кто последовал Христу. Что их ждет? — Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах (Мф 5:10–12). Златоуст прекрасно осознает всю парадоксальность христианства: оно заставляет жить вопреки принятым ценностям и сулит здесь, на земле, одни неприятности: “Христос как бы так сказал: хотя бы вас называли обманщиками, льстецами, злодеями или иначе как-либо, — вы все же блаженны. Что может быть необычнее этих наставлений, когда то, чего другие избегают, Он называет вожделенным, то есть нищету, горе, гонения, поношения” (Там же). Лучшим доказательством истинности христианства, лучшим доводом в его защиту служит сам факт его распространенности: “Тем не менее Он и сказал это и убедил не двух, не десять, не тысячу, не десять тысяч людей, а всю вселенную. И толпы народа восхищались, хотя слышали вещи тяжкие, мучительные, совершенно непривычные для большинства. Такова была сила Говорящего” (Там же).
Если последние две заповеди подводили итог той программе новой жизни, которая была начертана в предыдущих, то обетованные за них награды суть общий знаменатель духовного воздаяния за все заповеди в целом. Чувственные награды, упоминавшиеся Златоустом, имеют лишь частный характер, они не исключают награды духовной, ибо именно стяжание Царства небесного есть смысл того образа поведения, который предложен Учителем: “Если ты слышишь, что не при каждом роде блаженства даруется царство небесное, не унывай. Хотя Христос различно описывает награды, но всех вводит в царство. И когда Он говорит, что плачущие утешатся, и милостивые будут помилованы, и чистые сердцем узрят Бога, и миротворцы назовутся сынами Божиими, — под всем этим Он подразумевает не иное что, как царство: ведь наслаждающиеся этими благами достигнут, конечно, и царства. Итак, не думай, что этой награды удостоятся одни только нищие духом; ее получат и жаждущие правды, и кроткие и все прочие. Он для того при каждой заповеди и упомянул о блаженстве, чтобы ты не ожидал ничего чувственного. Не может быть блаженным венчаемый тем, что разрушается в здешней жизни и ускользает быстрее тени” (Там же, 5, 228).
Антиохийский проповедник был не только глубоким богословом и блестящим оратором, но и чутким знатоком человеческого сердца. Ему надлежало не только изъяснить евангельский текст и раскрыть учение Христово, но и вселить любовь к нему. И он прекрасно понимал, как ужаснется, содрогнется обыватель, как внутренне будет протестовать, когда услышит, что жизнь по Евангелию сулит ему тяжкие скорби. И пастырь, как бы становясь на сторону своей малодушной паствы, утешает, ободряет ее. Для этого он напоминает, как утешал и ободрял Своих апостолов Божественный Учитель, приводя им в пример библейских пророков: “Сказав «велика ваша награда на небесах», Христос присовокупил еще другое утешение «так гнали и пророков, бывших прежде вас». Так как приближалось царствие и было ожидаемо, то Он для утешения напоминает об их общности с теми, кто страдал прежде. Не думайте, говорит Он, что вы это терпите, потому что говорите и законополагаете недолжное или что будут гнать вас за проповедь учения нечестивого. Вы подвергнетесь наветам и опасностям не потому, будто вы неправо учите, а по злобе слушающих <…> И пророков не по обвинению в нарушении закона или в безбожии иных побивали камнями, других изгоняли, а иных подвергали тысячам других бедствий. Пусть это вас не тревожит! Ведь и теперь все делается из тех же соображений. Видишь, как Он поднял их дух (t¦ fron»mata ўnљsthsen), поставив их рядом с Моисеем и Илиею?” (Там же, 5, 229). Для спокойного перенесения бесчестий мало одного сознания своей правоты. Златоуст не закрывал глаза на тяжесть подвига и бережно, исподволь воспитывал внутреннего человека в своей пастве. Да, терпеть обиды очень горько, настолько горько, что даже Иов — “этот адамант тверже камня”, безропотно перенесший потерю имущества, детей, здоровья, укоры жены, поколебался и пришел в смятение от злословия друзей (Там же, 5, 230). Однако именно в этом величие христианства: оно не потворствует человеческим слабостям, оно делает человека способным переносить трудности. Именно в этом смысл назидания Спасителя Своим ученикам: “Он хочет обезопасить их не от того, чтобы они ничего худого о себе не слыхали, но чтобы худые слухи переносили великодушно и оправдывали себя делами, потому что последнее гораздо лучше первого и не унывать во время страданий гораздо важнее, чем совсем не страдать” (Там же, 5, 229). Это свойство человеческой личности воспитывается всей совокупностью Заповедей блаженства и бывает результатом их исполнения: “Заметь и то, после скольких заповедей предложил эту последнюю. Он сделал это не без намерения и желал показать, что тот, кто заранее не приготовлен и не утвержден всеми этими заповедями, не может вступать и в эти подвиги. Потому-то Христос сплел нам из этих заповедей золотую цепь, всегда пролагая путь от предыдущей заповеди к последующей. В самом деле, человек смиренный будет оплакивать и грехи свои; оплакивающий свои грехи будет и кротким и праведным и милостивым; милостивый, праведный и сокрушенный будет непременно и чистым по сердцу, а такой-то будет и миротворцем; а кто всего этого достигнет, тот будет готов к опасностям, не устрашится злоречия и бесчисленных бедствий” (Там же, 6, 230, 231).
Продолжая беседу далее, Златоуст приводил все новые и новые доводы, чтобы склонить сердце слушателей на сторону Христа. Он рассказывал им, как Учитель ободрял учеников похвалами (™gkwm…oij), говоря им “Вы — соль земли <…> Вы — свет мира” (Мф 5:13,14). Приемом похвалы издавна пользовались ораторы, когда хотели кого-то выставить примером для подражания; героя обычно ставили выше других и приписывали ему грандиозные подвиги. Антиохийский пастырь знал вкусы своей паствы и, давая ей соответствующую словесную пищу, приучал ее к христианскому пониманию великого и славного. В чем заключалась похвала апостолам, которую произнес Спаситель для укрепления их духа? Он назвал их “солью земли”. Златоуст обращает внимание на вселенский характер проповеди апостолов: они посылаются не в два города, не в десять, не к одному народу, как пророки, а ко всей вселенной, на сушу и на море; и не только их самих будет касаться это учение, но всей вселенной. Тем самым они выше пророков, и дело их — самое великое на земле. Слово “соль” указывает на повреждение всей человеческой природы грехом. Соль предотвращает гниение, и заповеди Спасителя распространяют свое действие на многих: “кто кроток, тих, милостив, праведен, тот не для себя только творит добрые дела, но старается эти благие источники добра излить и на пользу других. Так же и чистый сердцем, и миротворец, и гонимый за истину живет для общей пользы <…> итак, не огорчайтесь, если слова Мои кажутся вам неприятными, ведь благодаря вам и другие потерявшие себя воспрянут” (Там же, 6, 7, 231). Величие христианства в его заинтересованности в спасении всего человечества, в его открытости для всей вселенной. О вселенском характере апостольской проповеди говорит и второе сравнение: “Вы — свет мира”. “Мира, — опять-таки не одного народа, не двадцати городов, а всей вселенной”, — замечает Златоуст (Там же, 7, 232). Антиохийцы, как и все, ценили славу и известность, и пастырь их показывал им славу учеников Христовых в несокрушимой силе их благовестия, охватившего всю вселенную: “Подумай, в самом деле, сколько обещано было тем, кто неизвестен был даже в своей стране! Земля и море узнает их, и молва о них пройдет до пределов вселенной, или — лучше — не молва, а действие их благого дела, ибо не молва сделала их везде известными, но величие самих дел. Они, как птицы пронеслись через всю вселенную быстрее солнечного луча, распространяя повсюду свет благочестия <…> Так как прежде Христос говорил о гонениях, злословии, наветах, вражде, то, чтобы ученики не подумали, что все это может воспрепятствовать их проповеди, Он, ободряя их, говорит, что благовествование не только не останется в неизвестности, но и просветит всю вселенную, и сами они через это станут славными и знаменитыми” (Там же, 7, 232).
Величественным примером апостолов Златоуст вдохновлял своих слушателей, звал их самою жизнью свидетельствовать о Христе, исполнять заповеди и этим привлекать к себе других: “Подлинно, глас добродетели громче всякой трубы, и жизнь чистая светлее самого солнца, хотя бы злословящих было неисчислимое множество. Итак, если мы будем иметь все упомянутые добродетели: если будем кроткими, милостивыми, чистыми, миротворцами, не будем отвечать на оскорбления оскорблениями, а напротив, принимать их даже с радостью, то мы всех взирающих на нас привлечем этим не менее, как и чудесами, и все охотно устремятся к нам, хотя бы кто был неукротим, подобно зверю, хотя бы кто был лукав, подобно злому духу, — словом, как бы кто ни был худ. Если же явятся и злословящие <…> не смущайся, что тебя злословят перед людьми, но рассмотри совесть злословящих, и ты увидишь, что они рукоплещут тебе, восхищаются и внутренне осыпают бесчисленными похвалами <…> ведя так жизнь, мы и сидящих во тьме будем руководить к небесной жизни. Такова сила этого света, что он не только здесь сияет, но и освещает путь идущим туда. Когда сидящие во тьме увидят, что мы презираем все настоящее и стремимся к будущему, тогда они и без слов, самыми делами нашими убедятся в этом” (Там же, 8, 9, 234, 235). Живописуя столь возвышенный идеал христианина, антиохийский пастырь прекрасно понимает, сколь далеки от него пришедшие в храм горожане, и с отеческой заботой начинает лечить душевные язвы пасомых. Начав беседу с отдаленных событий, он все ближе и ближе подводил слушателей к их современности. Как искусный ритор, используя эффект контраста, он противопоставлял должное поведение христианина недолжному: “Если же мы будем прилепляться к настоящему и совершенно к нему пристрастимся, то поверят ли нам, что мы стремимся в другое отечество? Какое, наконец, будет нам извинение, когда для нас страх Божий будет иметь меньше значения, чем даже слава человеческая имела для языческих философов? <…> Что нас защитит, когда при стольких благах, нам обещанных, при стольких путях, открытых нам для благочестивой жизни, мы не только не можем сравниться с ними, но губим и себя и других? Не столько вреда приносит язычник, поступающий нечестиво, сколько христианин, ведущий себя так” (Там же, 9, 235). После этих слов, которые, с одной стороны, воспринимались как блистательная антитеза приведенному выше восхвалению христиан и услаждали слух ценителей риторики, а с другой — заставляли каждого задуматься, насколько и он далек от исполнения христианского долга, Златоуст обращался уже непосредственно к пасомым и укорял их за пороки, наиболее типичные в обществе. Первое место тут занимало стяжательство: “И как ты можешь исполнить хотя одну из заповедей Его, когда, оставив все, ты стараешься только собрать барыши, пустить деньги в рост, завести торговые связи, купить множество рабов, заготовить драгоценные сосуды, закупить поля, дома и разные домашние принадлежности? И пусть бы только это одно; но когда к этим бесполезным занятиям ты присоединяешь еще неправду, отнимая землю у соседей, грабя дома, разоряя бедных, увеличивая голод других, то когда ты приступишь к этим заповедям? Но ты иногда милуешь нищих? Знаю. Однако же и тут большая погибель для тебя, потому что ты делаешь это или с надменностью, или из тщеславия, так что и в добрых делах для тебя нет пользы” (Там же).
Златоуст не только обличал своих сограждан, но стремился вывести их из состояния порока, ломая сложившиеся стереотипы мышления. Обыватель привык жить в мире чувственных явлений, где главными факторами происходящих событий были действия его и его партнеров. Антиохийский проповедник говорил им, что в их жизненных ситуациях принимает участие мир невидимый, что в них незримо присутствует и активно действует Сам Христос. Тем самым менялась вся расстановка сил между людьми: заимодавец одалживал прежде всего — Бога и должен был постоянно иметь это в виду. Отсюда возникло непременное требование прощения обид и долгов, требование милосердия, снисходительности и активного устранения зла: “Станем оказывать милосердие и большое человеколюбие, как имуществом, так и делами, — восклицает Златоуст. — Если увидим, что кого-либо мучат и бьют на площади, и если можем избавить его деньгами, то избавим. А если можем освободить словами, не поленимся и это сделать” (Там же, 10, 236). Присутствие Христа в нашей жизни обязывает нас подражать Ему: Он примирил нас с Богом, и мы должны примирять враждующих. Голос пастыря звучит особенно громко, когда он зовет своих пасомых быть миротворцами: “И мы были некогда враги Богу, и Единородный примирил нас, сделавшись посредником, претерпев за нас раны и самую смерть. Постараемся же и мы избавлять от бесчисленных бедствий тех, которые подвергаются им, и перестанем поступать так, как мы поступаем теперь, когда, например, видя, что другие ссорятся и дерутся между собой, останавливаемся и окружаем это диавольское зрелище, чтобы позабавиться бесстыдством других. Может ли что быть бесчеловечнее этого? Видим, что бранятся, дерутся, раздирают друг у друга одежду, разбивают друг другу лицо и спокойно продолжаем стоять. Ужели тот, кто дерется, медведь? Ужели зверь? Ужели змей? Это человек, всегдашний сообщник твой; он брат тебе, он сочлен твой. Итак, не делай для себя зрелища, но прекращай ссоры; не забавляйся, но укрощай; не побуждай других к такому бесстыдству, но разнимай и усмиряй дерущихся <…> Как обижающий, так и обижаемый от сильного гнева, ими обладающего, подобны пьяным и потерявшим рассудок, потому и имеют нужду в человеке здравомыслящем, который бы им помог; первому, чтобы перестал обижать, а второму, чтобы избавился от побоев. Итак, пойди и подай руку помощи — трезвый опьянелому <…> пойди, прекрати зло, спустись в это бурное море и исхить утопающих и, разрушив зрелище диавольское, уговаривай каждого порознь, погаси пламень и укроти волны. Если пожар распространится, огонь усилится, не бойся, многие тебе подадут руку помощи, только начни, а прежде всех поможет Бог мира” (Там же, 10, 236, 237). И с новой силой бросает он упреки в лицо обидчикам, охваченным гневом и страстью к наживе: “Вам говорю я, которые пред всеми поступаете бесстыдно, — вам, обидчикам и притеснителям! Скажи, пожалуй: ты наносишь побои, топчешь, кусаешь? разве ты кабан или дикий осел? И ты не стыдишься, не краснеешь от своего зверства, забывая свое достоинство? Ты беден? Но ты свободен. Ремесленник ты? Но ты христианин <…> Ужели ты не понимаешь, что в своем бесстыдстве подражаешь необузданности бессловесных, или, вернее, поступаешь еще хуже их? У бессловесных все общее, они собираются и ходят вместе, а у нас, напротив, нет ничего общего, но все вверх дном: вражды, распри, ссоры, ненависть, обиды. Мы не стыдимся ни неба, куда мы все призываемся, ни земли, которая всем нам дана в общее жилище, ни самой природы своей, но все подавляют в нас гнев и любостяжание” (Там же, 10, 237, 238).
Пафос грозных обличений Златоуста — это пафос не гнева, а любви. Укоризны сменяются призывом отбросить гнев и стяжательство, дать место прощению обид и долгов. Христианство не только предлагает человеку возвышенный идеал жизни, но и вручает средство достичь его. Таким средством служит новый ориентир поведения, ориентация не на самого себя и других людей, а на Бога и вечную жизнь. Если в начале беседы пастырь удостоверяет своих слушателей в неизменной заботе Христа о всех людях, то в конце ее он говорит о прямой зависимости между отношением человека к себе подобным и отношением Бога к человеку, о зависимости вечной участи человека от того, как он ведет себя на земле. Бог неизменно любит человека, и каждый властен воспользоваться этой любовью или нет. Завершая свой разговор с пасомыми, антиохийский пастырь назидал их такими словами: “Бог для того только требует от нас такого снисхождения к ближним нашим, чтобы Самому иметь случай прощать нам великие согрешения наши. Итак, сколько бы ни было у тебя должников, деньгами ли то, или оскорблениями, всех прости, и за такое великодушие проси от Бога воздаяния. Доколе они будут оставаться твоими должниками, до тех пор и Бог не будет твоим должником; напротив, как скоро простишь их, тогда можешь приступить к Богу и требовать от Него воздаяния себе за такой добрый поступок <…> Мы должны иметь в виду не временное удовольствие, происходящее от взимания долгов, но тот вред, какой потерпим за то в будущем и который будет состоять в лишении бессмертных благ. Итак, возвысившись над всем этим, будем прощать и деньги, и оскорбления должникам нашим, чтобы и самим нам можно было получить прощение в своих долгах; и чего мы не успели достичь чрез другую добродетель, того мы достигнем, когда не будем помнить зла на ближних своих и таким образом сподобимся благ вечных…” (Там же, 11, 238).
1Свт. Афанасий Великий. Слово о воплощении Бога Слова и о пришествии Его к нам во плоти, 54 // Творения в четырех томах. Т. I. М., 1994, с. 260.
2Цит. по: Архимандрит Киприан (Керн). Золотой век Свято-Отеческой письменности. М., 1995, сс. 102, 103.
3Там же, сс. 103, 104.
4См., например, издание: Сборник бесед святаго отца нашего Иоанна Златоустаго, духовно-нравственного содержания. М., 1876.
5Здесь и далее текст цитируется по: Творения святаго отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского в русском переводе. Т. 7. Кн. 1. СПб., 1901, сс. 148 и сл. В отдельных случаях в перевод внесены изменения автором статьи.
Опубликовано в альманахе “Альфа и Омега”, № 12, 1997