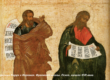В любой религиозной традиции молитва, при всем разнообразии ее форм и способов, похоже, непосредственно связана с ликом Бога, на взыскание которого она направлена. Бог библейского откровения — это Бог Живой, к Которому не прийти посредством умозаключения, ибо Он пребывает в свободе Своих преисполненных любовью деяний, Своего Промысла, что свидетельствует о Его Собственных поисках человека. Следовательно, истина в том, что христианская молитва, противящаяся любой антропоцентрической самодостаточности и отнюдь не являющаяся плодом естественного ощущения самотрансцендентности человека или результатом его врожденной религиозности, представляет собой ответ человека на бескорыстную и свободную инициативу Бога вступить во взаимоотношения с ним. Каждая библейская страница свидетельствует о том, что сей есть Бог, взыскующий, вопрошающий, призывающий человека, идущего от слушания к вере, а в вере отвечающего благодарением (благословением, прославлением и т.п.) и прошением (призыванием, мольбой, заступничеством и т.п.), то есть молитвой, обобщенной ее двумя основными формами. Таким образом, молитва есть oratio fidei (Иак 5:15), голос веры, выражение личного единения с Господом.
В то же время библейское откровение утверждает наличие еще одного аспекта молитвы: человеческого богоискания. В своих исканиях Бога человек предоставляет простор Божьему откровению, дарованному ему, но неизменно добровольному и суверенному. Эти искания выражают готовность человека к встрече как событию, ведущему к приобщению. Эти искания выражают признание отсутствия тождественности между Богом и человеком, означающее невозможность владеть Богом, даже познав Его. Такой поиск является составным элементом диалектики любви и диалогических отношений, занимающих в молитве центральное место. Наряду с тем, что христианская молитва есть ответ Богу, заговорившему с нами первым, она подразумевает также призывание и поиск Бога незримого, безмолвствующего, присутствующего прикровенно. Диалектика любви, раскрытая в Песни Песней, игра в прятки, взаимное желание и поиски возлюбленного и возлюбленной приложимы и к молитве, как это показывают Псалмы. «Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, […] размышляю о Тебе в ночные стражи. […] К Тебе прилепилась душа моя; десница Твоя поддерживает меня» (Пс 62). Диалог любви, имеющий место в Песне Песней, по сути, отражает ту реальность, к которой Писание хочет подвести человека в его отношениях с Богом. Возможно, именно аспект взаимности лучше других выражает proprium христианской молитвы, молитвы, которая окунается и переживается во взаимоотношениях союза, заключенного Богом с человеком.
На основании этих предварительных замечаний, мы можем сказать, что если жизнь является приспособлением к среде, то молитва, будучи духовной жизнью в действии, представляет собой адаптацию к нашей конечной жизненной среде, то есть Божьей действительности, объемлющей всё и всех. Исходной позицией для христианской молитвы является осознание и исповедание собственной слабости. В этом смысле показательным является умонастроение мытаря из евангельской притчи (Лк 18:9–14), представшего пред Богом в молитве таким, каков он был на самом деле, не прибегнувшего ни к обману, ни к маскам, ни к лицемерию, ни к идеализации, принимая себя таким, каким видит его Бог, приемля Божий взгляд на себя самого. Только тот, кто способен взглянуть на себя с позиции реализма, убожества и смирения, может предстать пред Богом, соглашаясь быть познанным Им таким, каков он есть. Впрочем, особого внимания заслуживает лишь то, что знает о нас Бог, в отличие от нашего неполного знания о себе (ср. 1 Кор 13:12; Гал 4:9). Итак, основанием для молитвы является признание собственной неспособности молиться: «Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим 8:26). Это признание влечет за собой готовность принять и вместить Божью жизнь. Молитва побуждает молящегося перестать фокусироваться на собственном «я», чтобы все более и более наполнять свою жизнь жизнью Христа, дабы жить под руководством Духа, дабы переживать сыновние отношения с Отцом. Такое смещение средоточия не имеет ничего общего с попыткой «опустошения себя» в подражание неким духовным практикам, характерным для иных культурных и религиозных традиций, ибо оно устремлено к «агапэ», к любви. Действительно, целью христианской молитвы, отличающей ее от других форм медитации и техник аскезы и сосредоточения, распространенных в восточных религиях, является милосердная любовь, исхождение и пребывание вне себя, ради встречи с Живой Личностью Иисуса Христа и обретения той любви к людям, «какою Он возлюбил нас». Таким образом, эта взаимность, будучи отсветом жизни Триединого Бога, присуща как Богу, так и людям и является фундаментальным отличительным признаком христианской молитвы.
Из книги «Лексикон внутренней жизни» Э. Бьянки