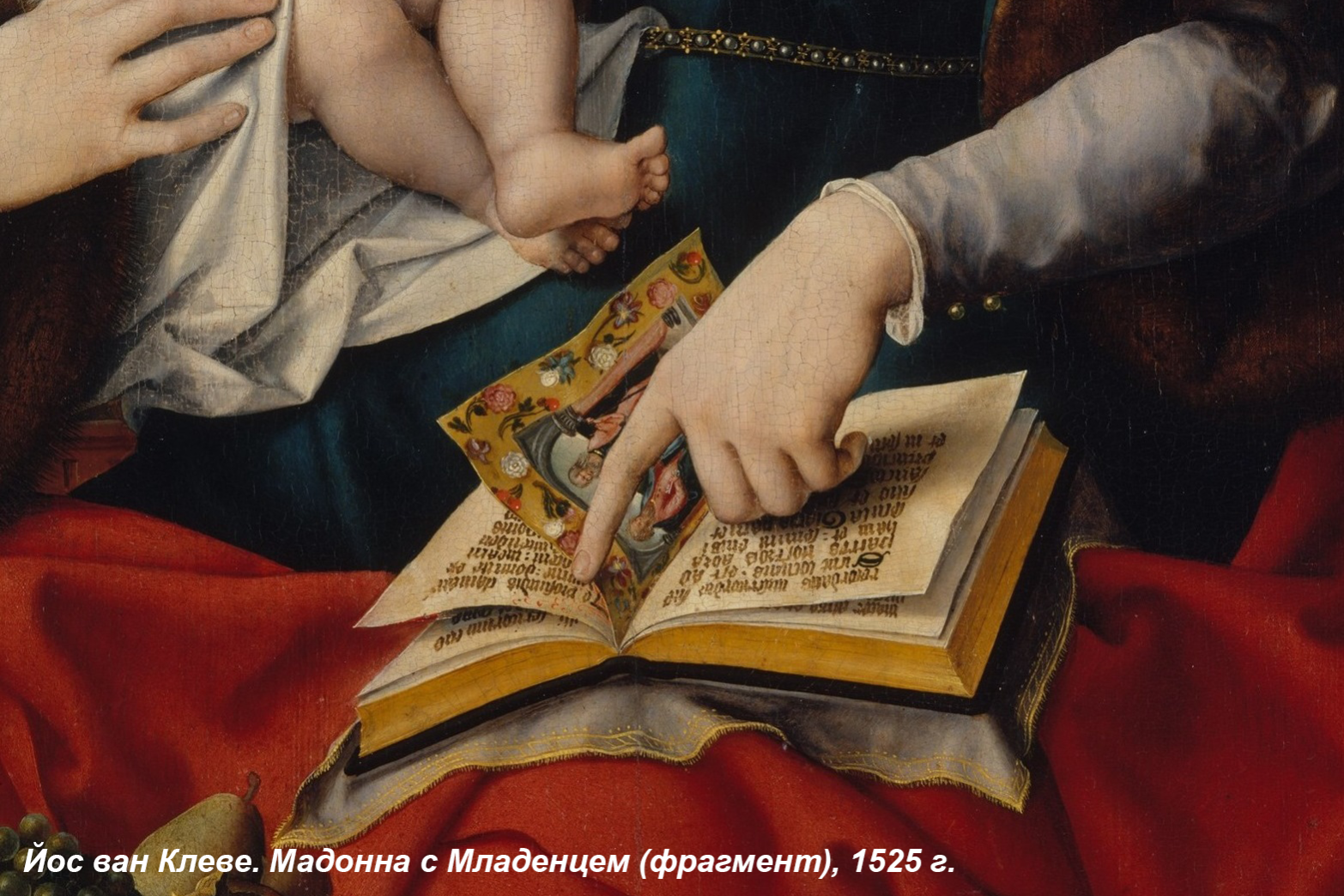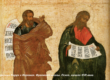«Неспособные ни слышать, ни говорить» — таковы, согласно одному фрагменту из Гераклита, люди. Христианин вполне осознает, что его способность говорить со своим Богом, Которого видеть он не может, зависит от способности Его слышать. Вера порождается слышанием: fides ex auditu (Рим 10:17), и молитва — это тоже, прежде всего, слушание Бога, Которого можно расслышать и в таинстве Его Слова, представленном Писанием, и в исторических, и в повседневных событиях, что достигается длительным и частым обращением к Евангелию, формирующим у верующего способность к распознанию. В действительности христианин обретает для себя источник видения в слушании. Поэтому неудивительно, что христианство является, прежде всего, подвижничеством слушания, искусством слушания. Новый Завет призывает обращать внимание на то, кого слушаешь, что слушаешь и как слушаешь. А это подразумевает постоянное разграничение Слова и слов, многотрудный путь распознания Слова Божия среди слов человеческих, Его воли — в исторических событиях, а также готовность человеческой личности в целом внимать.
Прогресс в духовной жизни пропорционален нисхождению в глубины слушания. Слушать, по сути, означает не только признавать присутствие другого, но и соглашаться отвести этому присутствию в себе самом место, вплоть до претворения себя в обитель другого. Опыт пребывания в нас Божественного присутствия (посещения Слова, которых преп. Бернард, по его собственному признанию, не раз сподобился вследствие библейского lectio) неотделим от стяжания «радушия» к другим людям, обретаемого в результате слушания. Здесь подразумевается, что человек внемлющий, избравший основанием для самоопределения парадигму слушания, и есть человек любящий, ибо любовь воистину порождается слышанием, amor ex auditu. Слушание Бога, во всех его непреложных аспектах — тишины, внимания, интериоризации, духовного усилия, направленного на то, чтобы вместить услышанное, сместить центр с себя самого в пользу Другого, — приводит к принятию, или точнее, обнаружению в себе присутствия, более близкого нам, чем наше собственное «я». Слушание дает верующему пережить опыт Иакова, вылившийся в возглас: «Господь присутствует на месте сем, а я не знал!» (Быт 28:16). Но местопребывание Бога — это не что иное, как человеческая личность. В самом деле, для Библии Бог — это не просто «Тот, Кто есть», а «Тот, Кто глаголет»; обращаясь к человеку, Он стремится к взаимоотношениям с ним и наделяет его свободой: действительно, если Слово есть дар, то его можно принять или отвергнуть. Поэтому христианская духовная жизнь обращает даже чтение в подвижничество, движение навстречу Тому, Кто вещает через страницу Библии.
Древнееврейская традиция именует Библию Miqra’, термином, означающим «призыв» выйти «из», чтобы направиться «к»: каждое прочтение Библии, для человека верующего, является предначинанием некоего исхода, началом пути целенаправленного ухода от себя навстречу Другому. По сути, именно такой исход имеет место в слушании! Неслучайно библейское повествование указывает на то, что величайшим препятствием на пути освобождения Израильского народа из Египта было его «жестокосердие», «жестоковыйность», то есть упорное нежелание слышать Бога и стремление прислушиваться лишь к себе самим. Но истинно и то, что библейский опыт, как и опыт верующего, показывает, что Бог есть и Тот, Кто «слышит молитву». Слушая Бога, человек постепенно постигает, что Бог его слышит: этим Божественным слушанием он объят, предварен и утвержден. Ап. Павел говорит: «Мы Им живем и движемся и существуем» (Деян 17:28). Слушание — это созерцательный подход, направленный преимущественно против идолослужения. Благодаря ему, христианин пытается жить, сознавая присутствие Бога, присутствие Иного — Зиждителя неисчерпаемой тайны всякой инаковости. Христианин живет слушанием.
Из книги «Лексикон внутренней жизни» Э. Бьянки