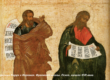Что может быть более важным предметом для богословия, чем внимание к узнаванию Христа? (А.С. Филоненко [1])
История моего абсолютно не научного доклада такова. Всё началось с того, что я прочитала один роман и увидела в нём Христа. Я спросила своих знакомых, которые тоже читали этот роман: это только я так вижу и так понимаю? Все мне ответили: да, только ты. Это были весьма уважаемые мною люди.
Через некоторое время по рекомендации нашего замечательного ректора я прочла книгу Джона Грейнджера «Как Гарри заколдовал мир»[2]. Меня восхитила непринуждённость автора, отвечающего во введении к своей книге на вопросы: «Встречался ли я с Роулинг?» («Нет, не встречался, нет, она мне ничего о своих книгах не говорила»[3]) и «Откуда я вообще всё это взял?» («Мне кажется, наши взгляды на мир откалиброваны очень схожими линзами», «У нас с Роулинг… схожий взгляд на мир»[4]). То есть существуют вещи, которые не обязательно объяснять: они просто находят отклик в сердце читателя.
Напомню, что в данном своём труде Грейнджер доказывает, что успех серии романов о Гарри Поттере том, что её образы, характеры и темы «несут в себе духовный смысл и специфически христианскую образность, характерную для английской литературной традиции»[5]. Роман же, о котором я хочу рассказать в своём докладе, тоже типично и подчёркнуто английский и тоже весь про магию – он называется «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл», автор – Сюзанна Кларк[6] (с которой я тоже не смогла выйти на связь).
Роман имеет большой объём, и разбирать его я не буду. В данном случае мне интересен только тот самый эффект узнавания, причём узнавания не универсального, а чисто субъективного. Упаси Бог мне обидеть моих друзей, которые просто читали роман про магию. Это именно я узнала там Христа в совершенно, казалось бы, неподходящем персонаже, и, возможно, это только мне так открылось, хотя видеть Христа в каждом человеке – задача всегда трудная, но необходимая. Что думает на эту тему автор романа, повторюсь, я не знаю, но мой ракурс видения мне очень помог в его понимании.
Человек-книга
Проведём небольшой эксперимент, который, разумеется, ничего не доказывает. Я прочту вам сейчас небольшой отрывок из романа, а вы скажите, что о нём думаете.
Первый отрывок.
«Впереди высилось одинокое дерево, с которого свисал труп. На голом торсе виднелись странные знаки, несомненно, при жизни несчастного скрытые под одеждой. Грудь, спину, руки и ноги покрывали замысловатые письмена. Их было так много, что тело выглядело скорее синим, чем белым.
Подъезжая к дереву, Чилдермас подумал, что это – жестокая шутка убийцы. Когда Чилдермас был матросом, ему доводилось слышать истории о дальних странах, где бандиты изображают на теле ужасные символы. Издалека знаки казались нарисованными на коже, однако вблизи Чилдермас увидел, что они находятся под ней.
Он спешился и развернул мертвое тело, чтобы увидеть лицо повешенного – оно побагровело и раздулось, а глаза вылезли из орбит и налились кровью. Чилдермас долго вглядывался в лицо трупа, пока, наконец, сквозь искаженные черты не проступил знакомый образ…
Достав из кармана нож, Чилдермас перерезал веревку. Среди заснеженной бесплодной пустоши он стянул с трупа одежду и принялся разглядывать знаки.
Знаки покрывали каждый дюйм тела, за исключением лица, рук, причинного места и ступней. Казалось, что человек с синей кожей надел белые перчатки и маску. Чем дольше Чилдермас вглядывался в знаки, тем яснее понимал: они что-то означают.
– Это письмена Короля, – наконец промолвил он».
Далее герой думает, что ему делать с трупом, куда его спрятать, как перевезти и т.д., но сам образ человека как книги (хотя это и изображено в несколько пародийном виде как татуировки), книги, которая сама не знает, что в ней написано и кем, очень интересен в свете христианской символики. Это может быть Божий план о человеке, который мог бы осуществиться, если бы тот в своей жизни исполнял волю Бога, а может, наоборот, быть знаком того, во что превратился человек, не следуя Божественному замыслу. Например, в Апокалипсисе Иоанна есть 2 книги: «И видел я мёртвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мёртвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими»[7]. К этому ещё вернёмся.
Второй отрывок.
«Чилдермас направился к лошади. Из саквояжа он достал верёвку и ящик с пистолетами. Он зарядил их и насыпал порох на полку.
Чилдермас обернулся, чтобы посмотреть, как там труп? Кто-то склонился над телом Винкулюса. Чилдермас засунул пистолеты в карманы и побежал обратно к дереву.
Незнакомец был в чёрных башмаках и черном дорожном плаще. Он присел на корточки над телом Винкулюса прямо на заснеженной земле. Чилдермас подумал было, что это Стрендж, но мужчина казался ниже ростом и худее. Он был одет как богатый и модный джентльмен, разве только прямые черные волосы оставил слишком длинными, не по моде. Волосы придавали ему сходство со священником методистом или поэтом романтиком.
«Я знаю его, – подумал Чилдермас. – Он – волшебник. Я хорошо его знаю. Почему я не могу припомнить его имени?»
Вслух Чилдермас сказал:
– Этот труп – мой, сэр! Оставьте его!
Незнакомец поднял глаза.
– Твой, Джон Чилдермас? – спросил он с мягкой иронией. – А я думаю, что мой.
Чилдермас удивился, что, несмотря на богатую одежду и властный вид, речь неизвестного звучала грубовато, даже для ушей Чилдермаса. Акцент явственно выдавал в нем северянина, но Чилдермас никак не мог вспомнить, где так говорят. Может быть, в Нортумбрии или в тех холодных землях, что лежат за Северным морем? И что самое удивительно, в речи незнакомца слышалось что-то неуловимо французское.
– Значит, вы ошибаетесь. – Чилдермас поднял пистолеты. – Я могу выстрелить в вас, сэр, но я не хочу этого. Оставьте тело в покое и ступайте своей дорогой.
Мужчина не ответил. Он еще мгновение изучал Чилдермаса, а затем, словно утратив к нему всякий интерес, снова повернулся к трупу.
В поисках лошади или кареты, которая могла привезти незнакомца, Чилдермас огляделся вокруг. Ничего. Посреди заснеженной пустоши находились только двое мужчин, лошадь, одинокое дерево и труп повешенного.
«Но где же карета? – спросил себя Чилдермас. – На одежде и обуви ни пятнышка грязи, словно он только что от камердинера. Где его слуга?»
– Вы – владелец ближних земель? – спросил Чилдермас.
– Да.
– А где ваша лошадь? Где карета? Где ваши слуги?
– У меня нет лошади, Джон Чилдермас. Нет кареты. И здесь только один из моих слуг.
– Где?
Даже не подняв глаз, незнакомец указал бледным тонким пальцем.
Чилдермас проследил за направлением. Никого, только ветер шевелит сухую траву. Что он имеет в виду? Ветер? Снег? Чилдермасу доводилось слышать о средневековых чародеях, которые считали силы природы своими слугами. Наконец Чилдермас понял.
– Нет, сэр, вы ошибаетесь. Я – вовсе не ваш слуга.
– Еще три дня назад ты кичился этим, – сказал незнакомец.
Хозяином Чилдермаса мог быть только один человек. Однако незнакомец не походил на мистера Норрелла… Из всех событий последнего времени это было самое невероятное.
– Сэр! Я вас предупреждаю! Оставьте тело в покое!
Мужчина еще ниже склонился над трупом. Он выдернул что-то из собственного рта – крошечную жемчужину, отливающую розовым и серебряным – и положил ее в рот Винкулюса. Мертвое тело вздрогнуло. Это не походило на судорогу больного, ни на дрожь здорового, скорее на трепет, с которым березовая роща встречает приход весны.
– Отойдите от тела! – вскричал Чилдермас. – Предупреждаю в последний раз!
Незнакомец даже не поднял глаз. Он кончиком пальца провел по телу, словно что-то на нём писал.
Чилдермас прицелился в левое плечо незнакомца, намереваясь только попугать его. Пистолет выстрелил, показалось облачко дыма, запахло порохом, из ствола вылетели искры. Однако свинец остановился на полпути – пуля повисла в воздухе, словно во сне. Затем она завертелась, раздулась, выбросила крылья, и, обернувшись чибисом, взмыла в небеса. Самое удивительное, что разум Чилдермаса оставался спокойным и твердым, как камень.
Незнакомец провёл рукой над телом Винкулюса – буквы пришли в движение и закрутились, словно водовороты. Это продолжалось некоторое время, затем незнакомец, кажется, удовлетворился результатом и остановил кручение. Он встал на ноги.
– Ты ошибаешься, – сказал незнакомец Чилдермасу. – Это не труп. Он жив. – Затем подошел и встал прямо напротив Чилдермаса. Немного торжественно, словно родитель, который стирает грязь с лица ребенка, незнакомец лизнул свой палец и начертил в воздухе некие символы на веках, губах и напротив сердца Чилдермаса. Затем легонько стукнул Чилдермаса по левой руке – пистолет упал на снег. Незнакомец начертил символ на ладони слуги. Наконец он отвернулся и приготовился уходить, но внезапно оглянулся, очевидно, что-то вспомнив, и начертил символ рядом с раной на щеке Чилдермаса…
Еще мгновение падающий снег и тени удерживали фигуру худощавого мужчины в черном плаще и башмаках, затем видение пропало».
Итак, вопрос: кто этот человек в чёрном плаще?
На самом деле прямого ответа в романе нет. Но читатель, вероятнее всего, догадывается, что это тот самый Принц Севера, или он же Принц-Ворон, прихода которого все волшебники Англии ждут уже не одно столетие и который является истинным её Владыкой. Главные герои романа – Стрендж и Норрелл – не раз пытались вызвать его своими заклинаниями, но безуспешно. Никто не знает, когда он придёт. Но всё в этой стране принадлежит ему – леса, горы, поля, города…
Собственно говоря, его не то чтобы ждут, но о нём знают. И его боятся. Это две составляющие отношения к невозвращающемуся Королю. И только Стрендж осмеливается вызывать его, чтобы попросить о помощи, потому что больше ему не на кого рассчитывать: он хочет вернуть любимую жену, но его магия вызвала большую Тьму, с которой он не в силах справиться.
Какая бывает магия?
Здесь я опять сделаю отступление касательно магии. У Грейнджера есть отличное пояснение для тех, кто боится самого слова «магия» и не даёт своим детям романы про Гарри, поскольку в них ученики читают заклинания и летают на метле. В главе «Магический сеттинг» он пишет о магии инвокационной и инкантационной[8]: «Разницу между инвокационной и инкантационной магией обычно не преподают в школах, так что позвольте мне объяснить. Слово «инвокационная» происходит от латинского invocare – «призывать». Именно такого рода магию чаще всего именуют «колдовством». Писания всех религий Откровения предупреждают нас, что «призывать» демонические силы и сущности себе на помощь для приобретения силы или достижения каких-либо личных целей – глупо и опасно. Исторические сочинения, священные писания и предания, художественная литература (вспомним «Доктора Фауста»), когда касаются темы колдовства, стараются показать нам: неутолимая жажда власти и успеха, толкающая чело века на путь черной магии, приводит к трагическому концу… Инкантационная магия … – гармонизация материальной реальности со Словом Божьим – представляет собой фантастическую, сказочную версию того, что в жизни становится возможно с помощью молитвы». «В книгах о Гарри Поттере иквокационного колдовства нет. Даже самые злые волшебники здесь орудуют исключительно заклинаниями. Ни один персонаж во всех семи книгах ни разу не обращается к каким-либо злым духам».
В романе же Кларк как раз инвокационная магия приводит героев к ужасным событиям, последствия которых они не способны ликвидировать – по крайней мере до конца, даже с помощью беззаветной и верной любви. Заканчивается книга так: «Придет день, – произнёс он, – и я отыщу нужное заклинание и рассею тьму. И тогда я приду за тобой. – Да. Придёт день. Я буду ждать». Тот, на которого Стрендж надеялся, не пришёл – вернее, пришёл, но не помог, а только раскидал все магические учебники. Давайте посмотрим, как волшебники вызывают Короля:
«Боюсь! – воскликнул мистер Норрелл. – Еще бы, конечно, боюсь! Эта затея – подлинное безумие! Но дело в другом. У нас ничего не получится. Как бы вам ни хотелось, вы не сможете заставить его! Допустим, нам вместе удастся [его]вызвать… Почему вы так уверены, что он согласится помочь? Короли не склонны удовлетворять ничье праздное любопытство, а этот Король – в особенности!
– Ну, если для вас это праздное любопытство… – начал Стрендж.
– Нет! – перебил его Норрелл. – Не для меня. Для него. Что ему до двух пропавших женщин?.. Для него все это не такое уж несчастье. Он просто не поймет вас.
– Тогда я объясню ему. Мистер Норрелл, я изменил всю Англию ради спасения своей жены. И меня не испугает один человек…»
Весь смысл романа С. Кларк, на мой взгляд, может быть понят исключительно в свете его эсхатологичности. Вся книга, «битком набитая» древними сказаниями, легендами и магическими заклинаниями, с первой и до последней страницы оставляет ощущение общей давящей на психику стагнации, мертвящего застоя, из которого нет выхода. Падший мир, жители которого знают про магию всё и не могут ничего – типичная картина сегодняшнего дня, несмотря на то, что «Царство Божье приблизилось»[9] уже более двух тысяч лет. Использование инвокационной магии вместо инкантационной, призывание разных падших духов вместо сердечной молитвы, использование кого угодно для решения своих задач вместо живых отношений с Богом, а в храмах совершаются убийства – вот что рисует Сюзанна Кларк в своём романе о христианской на первый взгляд Великобритании. Магия как Божия сила без отношений с Богом не становится выходом из тупика, хотя сначала и кажется таковой. Уже в первой главе книги появляются те, кто недоумевает, «почему современные волшебники уже не способны на то колдовство, о котором так красиво пишут»[10].
Вот начало романа.
«Некоторое время назад в городе Йорке существовало общество волшебников. Каждую третью среду месяца его члены собирались и читали друг другу длинные скучные статьи по истории английской магии.
То были маги‑джентльмены: своим колдовством они никому не принесли и малейшего вреда, как, впрочем, и малейшей пользы. Вообще‑то, сказать по правде, ни один из них за целую жизнь не произнес ни одного заклинания; ни один листик не дрогнул под воздействием их чар, ни одна пылинка не сменила своего привычного курса, ни один волосок не упал с чьей‑либо головы. Впрочем, несмотря на упомянутое мелкое обстоятельство, они пользовались репутацией наимудрейших джентльменов в Йоркшире.
Один великий волшебник сказал о своих коллегах, что те «мучительно силятся затвердить простейшее заклинание, а вот ссоры и свары даются им без всякого труда», и Йоркские маги на протяжении многих лет успешно доказывали справедливость его слов».[11]
Кажется, это что-то напоминает… Соль, потерявшая силу[12]. Институциональная религия: маги-учёные, не имеющие трансцендентного опыта.
Но и возродив магию просто как силу, рассеять тьму невозможно. Это может только законный Король, который придёт, когда посчитает нужным, когда Его будут ждать и будут Ему доверять.
Символика, встреча, ожидание…
Итак, что же мы имеем в образе Короля-ворона? И в чём причина того, что никто из прочитавших роман не связывает его образ с Христом? (Как спрашивали у Грейнджера: «Джон, а ты точно всё это не выдумал?»)
Во-первых, это символика ворона. Я посмотрела много источников, и в основном, это символ, несущий негативную информацию – смерть, зло, грех, разрушение, дьявол и т. п. Даже если бы Кларк отказалась от более-менее традиционных христианских образов типа голубя (как и Роулинг выбирает свинью вместо агнца), чтобы избежать приевшихся ассоциаций, сделать образ действующим, то и тогда не очень понятно, зачем понадобилось такое нагромождение отрицательных коннотаций сразу – север, холод, ворон, чернота, колдовство и т. д. (Хотя надо отметить, что зачастую образ ворона встречается даже в христианской иконографии, например, на изображениях св. пророка Илии или св. Павла Фивейского, олицетворяя собой Божью заботу и защиту[13]).
Во-вторых, это обилие сказочных, мифологических и прочих историй, подводящих читателя к заключению, что Принц-ворон сродни какому-то чёрному колдуну типа Мерлина или Бендигейду Брану.[14]
Будучи профессиональным филологом, я должна была бы проследить за всеми деталями в романе и доказать свою точку зрения с опорой на текст. Но дело не в том, что это заняло бы слишком много времени. Особенность повествования об этом персонаже такова, что всё великое множество таковых подробностей не более чем древние легенды, чьи-то рассказы или слухи. Как правило они маркируются обычными словами типа «говорят», «всем известно» или «как утверждают историки». Он появляется в романе только один раз, в самом конце – и мы можем только догадываться, кто это. Он воскрешает повешенного, утверждая, что «это не труп» («у Бога все живы»[15]), и переписывает надписи на его теле. Всё. Дальше он исчезает, и мы опять ничего о нём реальном не знаем. И читателю предстоит осознать тот факт, что всё, что он знает, всё, что он слышал о Христе – это не более чем просто информация, что это всё не имеет практически никакого отношения ко Христу Живому. И тогда, если ты не был с Ним знаком, то так же, как Чилдермасу, тебе покажется, что ты его знаешь, но не можешь вспомнить, что-то случилось, но ты ничего не понял, хотя тебе даже порез на щеке исцелили.
Не надо забывать, что мы имеем здесь дело с литературой. И если это литературное произведение хорошее, если это настоящая литература, то тексты всегда будут многоплановые, сложные, включающие много смысловых пластов. Задача писателя состоит в том, чтобы помочь читателю самому увидеть то, что сразу не заметно, настроить его глаз на глубину. Но увидеть должен сам читатель, за него это сделать никто не может, даже если станет настойчиво тыкать пальцем: да вот, смотри же!
О том, что про Бога иногда лучше не говорить вслух, я поняла ещё когда в 2004 году смотрела со своими детьми мультфильм «Полярный экспресс». Просто немыслимым тогда казалось произнести, что Санта – это Бог, город с эльфами – Царство Небесное, а волшебный колокольчик – голос Божий («бат коль»). Это означало что-то сломать внутри ребёнка, так я это чувствовала. Может быть, потом, глядя его со своими детьми, они это вдруг увидят. Я бы этого очень хотела. То же самое было с «Нарнией» К. Льюиса.
Об этом писал, например, Ф.М. Достоевский в письме Всеволоду Соловьёву от 16 (28) июля 1876 года из Эмса.
«Вот что значит доводить мысль до конца! Поставьте какой угодно парадокс, но не доводите его до конца и у вас выйдет и остроумно, и тонко, и comme il faut; доведите же иное рискованное слово до конца, скажите, например, вдруг: “вот это-то и есть Мессия”, прямо и не намёком, и вам никто не поверит именно за вашу наивность, именно за то, что довели до конца, сказали самое последнее ваше слово. А впрочем, с другой стороны, если б многие из известнейших остроумцев, Вольтер, например, вместо насмешек, намеков, полуслов и недомолвок, вдруг решились бы высказать все, чему они верят, показали бы всю свою подкладку разом, сущность свою, – то, поверьте, и десятой доли прежнего эффекта не стяжали бы. Мало того: над ними бы только посмеялись. Да человек и вообще как-то не любит ни в чём последнего слова, “изреченной” мысли, говорит, что: “Мысль изреченная есть ложь”»[16].
Сам Достоевский создавал свои произведения, исходя именно из этих соображений.
«Достоевский насыщает текст своих произведений, в частности, романа «Идиот»… евангельскими цитатами в самых неожиданных местах, превращая самые насмешливые и издевательские фразы, сплетни о герое – в свидетельства присутствующей в нем природы Христа. Свидетельства эти не только легко пропустить и не заметить, несмотря на их совершенную очевидность, как только наше внимание будет на них обращено, – но они и будут непременно не замечены читателем, обращающим внимание в первую очередь на внешнюю сторону рассказываемого. Так в структуре текста сцены и эпизода повторяется двусоставная структура образа героев – и мы можем явственно увидеть разрыв между впечатлением от поверхностно понятого сюжета, например, «сцены соперниц», воспринятой как столкновение двух влюбленных женщин, – и глубинным смыслом сюжета: сталкиваются и сходятся в битве здесь две природы человека»[17].
Уверена, что люди, которые активно не любят Достоевского, – это те, кто не смог разглядеть и принять в его романах Христа. Такие люди говорят о беспросветности его произведений, о том, что он выворачивает читателя наизнанку и не указывает выхода. Но на самом деле выход один – Христос, который рядом с нами «стоит у двери и стучит[18]». Если Его не увидеть – весь смысл романа улетучится, как туман. Останется только ужас падшего мира.
То же самое мы видим в романе С. Кларк «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл». Какой смысл писать 800-страничный роман о том, как плохо человеку без магии и как магия опасна?
У Александра Филоненко есть прекрасные лекции о богословии узнавания (в контексте богословия общения и богословия встречи[19]). И он говорит о том, что, когда человек что-то увидел – он уже не может это «развидеть». Встреча состоялась. А пока её не было – приходить Ему бесполезно. Не к кому. И Он ждёт. Ждёт, когда люди будут готовы к отношениям, к встрече, к истинному общению. Ведь даже если человек, как Стрендж, жаждет этой встречи, но ищет не общения, а чего-то другого – тоже ничего не получится. И всё останется таким, как было веками – страшным, глупым, непреображённым. Волшебникам остаётся только заниматься скучной работой по благоустройству территорий или обслуживанию военных компаний, и результаты их деятельности всегда плачевны.
У Сюзанны Кларк:
«Ты нашёл способ рассеять тьму? – спросила Арабелла.
– Нет, ещё нет. Хотя сейчас я очень занят – появилось несколько новых гипотез относительно наяд, и у нас просто нет времени, чтобы серьезно заняться этим вопросом. Впрочем… Мы не теряем надежды… К тому же, кто знает – возможно, тьма – не такое уж зло для нас двоих?»
Краткое заключение
В романе никто не побеждает: тьма остаётся, потому что люди не зовут Короля, а используют его. Да и не сильно хотят они конца тьмы: их вполне устраивает равновесие между светом и тьмой и вечное хождение по лабиринтам. «Царство приблизилось», но остаётся непризнанным.
Таким образом, фигура Короля-ворона становится литературным образом Христа, но увидеть его возможно лишь при определённой внутренней готовности к «узнающему» чтению. Текст не утверждает истины – он лишь предлагает пространство встречи, а прозрение должно совершиться внутри читателя.
Любовь Пустовалова, выпускница Колледжа «Наследие»
Доклад на Студенческой конференции 27 мая 2025 года
Ссылки:
[1] Филоненко А.С. Теоэстетика. 7 лекций о красоте. – М.: Никея, 2022. – С. 46.
[2] Грейнджер Джон Д. Как Гарри заколдовал мир. Скрытые смыслы произведений Дж.К. Роулинг. – М.: Никея, 2023.
[3] Там же. – С. 36.
[4] Там же. – С. 38, 39.
[5] Там же, с. 33.
[6] Кларк С. Джонатан Стрендж и мистер Норрелл. – М.: Никея, 2024.
[7] Откр.20:11–12.
[8] Грейнджер Джон Д. Как Гарри заколдовал мир. Скрытые смыслы произведений Дж.К. Роулинг. – М.: Никея, 2023. – С.43.
[9] Мф. 3:2.
[10] Кларк С. Джонатан Стрендж и мистер Норрелл. – М.: Никея, 2024. – С. 20.
[11] Там же.
[12] Лк. 14:34. (Ср., например: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит» (Ин 14:12)).
[13] «В бестиарной литературе образ ворона противоречив: он символизирует как влияние диавола на людей, так и твердость в вере, как предательство иудеями Иисуса, так и брачный союз Христа и церкви» (ТГ-канал «Птенцы гнезда Ястребова» 14.03.2025.)
[14] Бран Благословенный, Бендигейд Вран (Brân Fendigaidd, Bendigeiduran, буквально – Благословенный Ворон) – один из персонажей уэльского фольклора, сын Ллира (Llyr), бога океана, и древний «король Британии и трёх прилегающих островов». Бран принадлежит к морской ветви волшебного народа, и относится к потустороннему миру, Аннуину – считается, что имя Brân могло принадлежать общекельсткому богу Иного мира, а Bendigeid – характерный эпитет для существ из волшебного народа вообще. – URL.: https://diary.ru/~ogham/p208175123.htm
[15] Лк. 20:38.
[16] Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990. – Т. 29. – С. 102.
[17] Касаткина Т.А. Мы будем лица. М.: ИМЛИ РАН, 2023. – С. 185.
[18] Откр. 3:20.
[19] Филоненко А.С. Теоэстетика. 7 лекций о красоте. – М.: Никея, 2022.