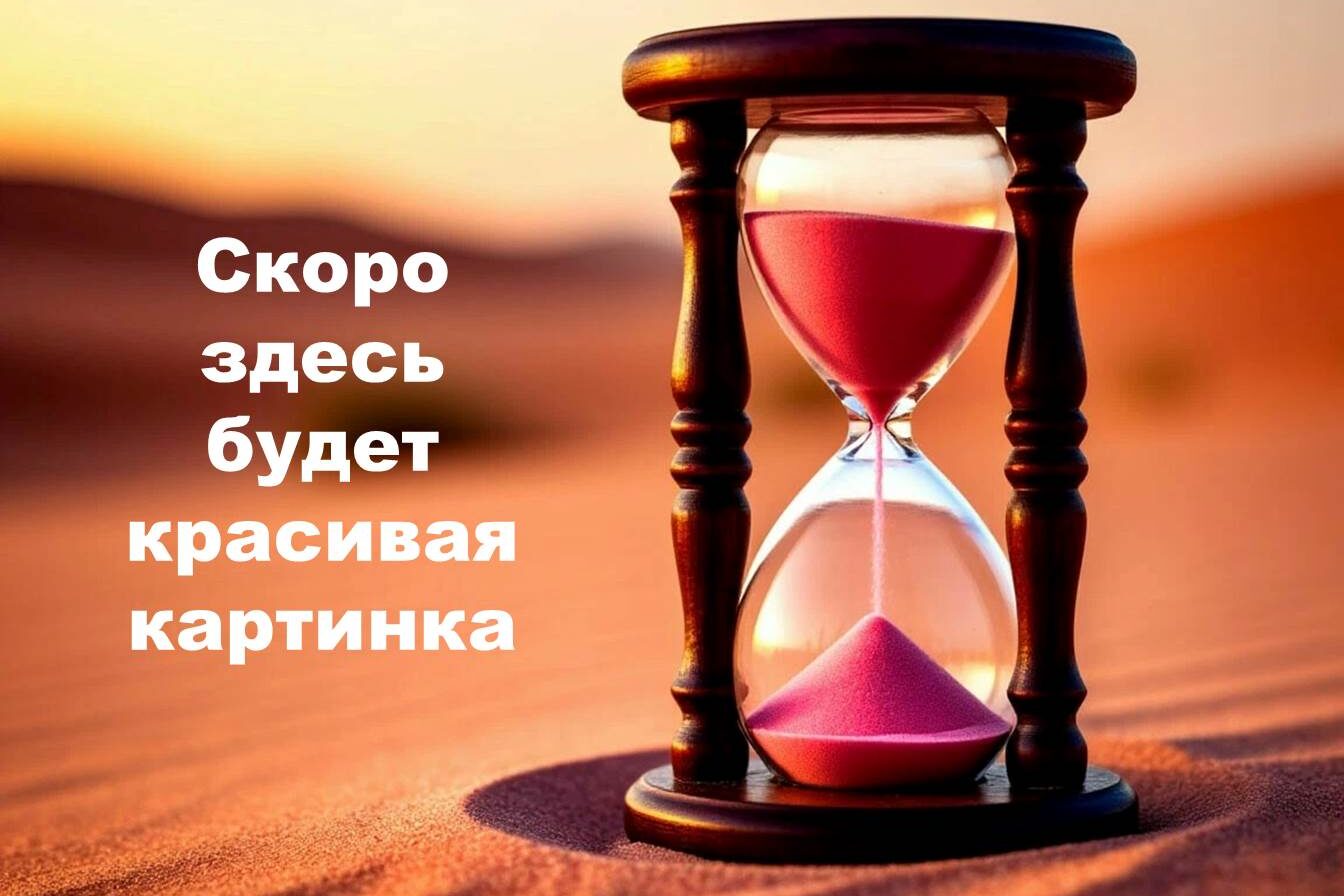Д.Б. Матвеев, преподаватель колледжа Наследие

Доклад к семинару по теме «Жертва» в колледже Наследие. 05.05.2017
Крестная жертва Христа – в каком смысле и кому? На эту тему мы с вами попытаемся порассуждать.
Мы привыкли к тому, что о крестной смерти Иисуса Христа в церкви очень часто говорят как о жертве. Причем о жертве в религиозном (и первоначальном) смысле этого слова, теперь уже вышедшего в своем поле значений за религиозные рамки. Такой смысл слова предполагает, что всегда можно спросить, кому конкретно эта жертва и какой религиозный статус она имеет. У нас на уровне канонических новозаветных текстов «вшито» вполне определенное понимание: это жертва Богу за грех, приносимая безгрешным Христом. Апостол Павел неоднократно пишет, что Христос умер за грехи наши – 1.Кор. 15:3, Рим.4:25 и др. В Евангелии от Иоанна говорится о Христе как об агнце Божием, который заклан за грехи мира. А наиболее разработана тема жертвы Христа в Новом Завете, конечно, в Послании к евреям, согласно которому жертва Христа – это единая, неповторимая, единственная истинная жертва. По мысли автора можно сказать: единственная действенная, в противоположность ветхозаветным законным жертвам, которые надо было постоянно повторять, и все равно ничего в судьбах людей радикально не менялось; теперь же, со смертью Христа – изменилось.
Здесь, правда, надо оговориться, что принцип повторяемости жертвы все же проник и в христианскую теорию и практику. Я имею в виду соответствующее понимание Евхаристии, когда последняя, изначально носившая смысл трапезы воспоминания и благодарения, стала пониматься как бескровное повторение, воспроизведение жертвы Христа, также действенное, эффективное для тех, кто в ней участвует. Так что даже может создаться впечатление, что с этого момента стали думать, что действенности жертвы Христа все-таки не хватило для спасения. Конечно, никто таких мыслей явно не высказывал. Скорее мы имеем здесь дело со случаем, когда берет свое, идя впереди мысли, религиозный принцип или своего рода инстинкт воспроизведения. Суть его в том, что если есть однократное первособытие, ключевое для судеб человека и мира, то для дальнейшей актуализации своей силы, для возможности приобщения к этой силе это событие должно обязательно воспроизводиться в акте священнодействия: ритуале, таинстве и т. п. (оно, может быть, обосновывается соответствующим мифом, возводящим происхождение священнодействия от Бога). Таким же образом и сила Бога, проявившаяся в Кресте и Воскресении Христа, тоже в дальнейшем должна быть воспроизводима в некоем таинстве, чтобы иметь действие для человека и мира.
Однако важно констатировать, что было время, когда в христианстве такого представления о Евхаристии как воспроизведении крестной смерти не было. Сам же ход мысли Послания к евреям об этом свидетельствует: Жертва принципиально однократна и совершена Самим Богом, а значит, ни Евхаристия, ни какое-либо иное человеческое усилие не может быть повторением Креста. И естественным образом настало и время, когда возникшую и ставшую едва ли не нормативной логику воспроизводимости жертвы снова начали ставить под вопрос.
Но вернемся к основной теме. В принципе, и сама идея Крестной смерти как единой космической жертвы, выдвигаемая в Послании к евреям, у современных людей также может вызвать вопросы. Вообще я бы сказал, что Послание к евреям – в определенном смысле текст жреческой, священнической традиции. В том смысле, что он обращен к людям, для которых священник, совершающий жертвоприношение – фигура, без которой невозможна жизнь, которые живут этой идеей «эффективной жертвы», жертвы как способа изменить что-то важнейшее. И этот текст сильно повлиял на христианское мышление в «жреческую» сторону.
Наверное, это будет звучать парадоксально, но получается, что текст, который отрицает идею повторяемости жертвы, скорее всего, и способствовал усилению мышления в категориях «жертвы», в том числе и понимания Евхаристии в таких категориях, потому что он легитимирует сам принцип «эффективной жертвы».
Но мы-то с вами мыслим уже давно не «жречески». И многим из нас просто странно, что это за Бог, Который то ли не хочет избавить людей от смерти без неких символических действий, адресованных Ему, то ли даже не может без них этого сделать.
«Что это за Бог», в принципе очень хорошо, по-своему логично было объяснено в XI веке Ансельмом Кентерберийским, одним из столпов западной схоластики. В трактате Cur Deus Homo («Почему Бог стал человеком») он предложил весьма скрупулезное развитие темы «жертвы за грех», разрабатываемой в Послании к евреям. Первородный грех, объясняет Ансельм, – это преступление против божественного миропорядка, а, следовательно, оскорбление Бога, Его абсолютной справедливости. И поскольку Бог бесконечно велик, то и оскорбление Его бесконечно велико, а значит, для избавления людей от смерти как возмездия за грех требуется соответствующая сатисфакция (удовлетворение) божественной справедливости. Но такую сатисфакцию даже все человечество, будучи ограниченным и греховным, принести не может.
Однако Бог кроме того, что Он есть абсолютная, бесконечная справедливость, еще и абсолютная, бесконечная, совершенная Любовь и хочет спасения всех людей. И Он находит решение: только Он Сам, как Существо бесконечное, может принести сатисфакцию собственной справедливости. И приносит ее от Себя самому Себе: в виде Сына Божьего, ставшего человеком и пострадавшего за всех людей на Кресте. В этом и состоял смысл вочеловечения Христа.
Как говорится, судите сами, что мы можем сказать по этому поводу из нашего времени. Что мы можем сказать о Боге, Которому нужно, чтобы кто-то умер? Пожалуй, в таком Боге мы можем увидеть прежде всего «проекцию на небо» человеческой идеи воздающей по заслугам справедливости. Более того, проекцию конечных реалий на Бога можно увидеть в самой Его идее, предполагающей в Нем ряд характеристик, включая любовь и справедливость, которые при определенных условиях могут вступить между собой в конфликт, так что Бог окажется перед необходимостью разрешить его как некую проблему. Что мы и видим в ансельмовой теории искупления. Понятно, что это достаточно странный Бог.
Но тут мы можем очень кстати вспомнить, что мы с вами православные и, вообще говоря, этот западный Ансельм, канонизированный Католической церковью сильно позже ее «отпадения», нам не авторитет. У нас есть наша классика и даже более чем классика, «наше всё», – святые отцы, прежде всего восточные, грекоязычные. Хорошо, обратимся к восточным отцам, и что же увидим? Идея смерти Христа как жертвы за грех, снимающей со всех людей осуждение, хотя и не в столь систематизированном в виде, как у Ансельма, красной нитью проходит и у них. Авторитетнейшие Афанасий Великий, Григорий Нисский, Григорий Богослов и даже такой мистик, как Ефрем Сирин – у всех из них без особого труда (особенно сегодня, когда есть возможность «погуглить» или «пояндексить») можно найти высказывания этого рода. Никакого неприятия идеи Христовой жертвы как платы за грех у восточных отцов не прослеживается. Собственно, это вполне объяснимо: благочестие того времени, которое можно назвать «докритическим» (т. е. предполагающим некое неоспоримое, непререкаемо авторитетное содержание, каковым в целом и было время до эпохи Просвещения), предполагает непререкаемый авторитет Писания как Слова Божьего, аргументацию от «ибо сказано» как вполне достаточную. И, раз в апостольских посланиях о крестной смерти Христа говорится в таком духе, то этого достаточно для того, чтобы исключить сомнения.
С другой стороны, христианский Восток 1-го тысячелетия – «дело тонкое». Это место и время солидной интеллектуальной культуры, именно эллинский и эллинистический христианский Восток непосредственно наследует древнегреческую философскую традицию. А там, где интеллектуальная культура высока, даже в докритической ситуации происходит следующее: чем сложнее вопрос и чем таинственнее на него ответ, тем больше осознается невозможность сформулировать этот ответ единым образом. Поэтому по важнейшим богословским вопросам, исключая разработанные на Вселенских Соборах (которые все без исключения собирались императорами ради важного государственного дела – выработки единственно правильных формул общественной религии), греческие отцы высказывались весьма по-разному. Что касается жертвы Христа, было, например, мнение, что принесена она не Богу, а дьяволу. Это мыслилось в виде своего рода сконструированного мифа, как некая божественная «военная хитрость»: дьяволу в обмен на вызволение всего человечества обещана крупная добыча – сам Сын Божий. Бог «в ходе контракта» лишь умолчал о том, что такая добыча дьяволу принципиально не по зубам… Так (видимо, с подачи Оригена) мыслил, например, Григорий Нисский. На это другой святой Григорий, Богослов, писал, что приписывать Богу мысль о сделке с дьяволом – оскорбительно для Бога. И это уже пример разных мнений на данный счет.
Но это далеко не все, что касается мыслей восточных отцов о значении смерти Христа. Они осмысляли ее еще и в терминах, уводящих в сторону от самой идеи религиозной жертвы: в терминах своего рода метафизической органики и терапии. Можно сказать, что если идея искупительной жертвы предполагает понимание греха как вины, то здесь грех понимается как болезнь. Самое известное высказывание этого рода принадлежит свт. Григорию Богослову и звучит следующим образом: «невоспринятое не уврачевано, но что соединилось с Богом, то и спасается». Сказаны эти слова в полемике с Аполлинарием Лаодикийским, считавшим, что Христос при воплощении воспринял только человеческие душу и тело, но не высшую часть – ум (имеется в виду античное трехчастное деление человека «ум – душа – тело», в котором «ум» в последующем христианском контексте сменился библейским понятием «дух»). Смысл аргументации Григория против Аполлинария в том, что восприятие Сыном Божиим второй, человеческой природы имеет принципиальное сотериологическое значение. Для спасения необходимо, чтобы во Христе весь человек «сверху донизу», от ума (духа), до тела соединился с Богом. Восприятие происходит на уровне общей человеческой природы и потому имеет всеобщее значение для избавления человечества от греха и смерти.
За этим стоят вполне определенные и известные схемы мышления, в которые сейчас нет времени вдаваться. Как не будем мы вдаваться и в появившуюся в ХХ в. тенденцию противопоставления «юридического» и «органического» подходов – отметим лишь, что это именно позднее противопоставление: в святоотеческих текстах эти подходы мирно уживаются. Нам сейчас важно другое. При любом подходе оказывается, что всеобщее значение с точки зрения спасения имеет и смерть этого сложного существа – Богочеловека-Христа. Без нее недостаточно даже одного воплощения, восприятия Богом человеческой природы. Во всяком случае, в святоотеческой традиции такое мнение прочитывается. Это лишь в ХХ в. поставлены вопросы, отцами не ставившиеся: а что, если бы Иисус не умер, если бы люди не были столь злы, что отправили безвинного на крест? Но сформировавшаяся в 1-м тысячелетии богословская традиция включала представление о сотериологической значимости смерти Христа: Ему нужно было «попрать смертью смерть». Ортодоксальной стала мысль, что на кресте умирает не только человек, но и Бог: в этом проявляется реальная соединенность двух природ, в которой человеческая природа исцеляется соединением с божественной.
Здесь есть существенная трудность. Мысль отцов (как и в некоторых других темах) фактически вращается здесь в области принципа необходимости. В божественном деле спасения этот принцип действует так же, как и в «земных», эмпирических процессах. В таинственном действии Бога мыслится закон причинности, аналогичный действующему в известных нам процессах. Чтобы был положительный результат (избавление человеческого рода от смерти), что-то метафизическое должно соединиться с другим метафизическим и подействовать (божественная природа на человеческую), подобно тому, как соединяются и действуют, например, химические субстанции. Мысль, что смерть даже Богом может быть побеждена (попрана) только с помощью смерти, выглядит как лежащая в той же логике. Впрочем, здесь можно видеть и не только такой чисто интеллектуальный «перенос физики на метафизику», а то, что, возможно, за ним стоит: древний, существующий во многих религиях миф о проникновении Бога под видом человека в царство смерти, меняющем саму ситуацию ее господства в мироздании, устраняющем ее фатализм. В самом христианстве возникла трактовка смерти Христа как подобная – сошествие во ад «со взломом» последнего. В каком-то смысле идея «жертвы дьяволу» оказывается перекликающейся с этим мифом, если делать акцент не на частных сюжетах вроде обмана при сделке, а на бессилии дьявола перед Богом, способным на этот «взлом» его царства.
К слову говоря, эти попытки размышлять над ходом мысли традиции дают возможность прояснить место в ортодоксальной сотериологии представления о спасительной роли Евхаристии, упомянутого выше. Помимо «объективной» стороны сотериологии (что сделал Бог для человечества и мира) существует и «субъективная» ее сторона (к чему это должно побуждать каждого человека). И если во Христе Бог соединяется не с конкретным человеком Иисусом (по ортодоксальной мысли, конкретного человека Иисуса вне боговоплощения и не было), а со всей человеческой природой, и даже если Он «взломал» царство смерти, то это означает, что все потенциально восприняты в спасение. Но навязать его ни одному конкретному человеку невозможно, потому что воля принадлежит ипостаси, а не природе (это различие в особенной мере разработано Максимом Исповедником). Появившаяся возможность должна быть еще свободно принята и реализована каждым человеком. Но эту реализацию, в соответствии с тенденциями времени, стали видеть прежде всего ритуалистически-мистериально, через Евхаристию как средство приобщения к этому событию за счет его воспроизведения, возможного, помимо прочего, лишь в истинной Церкви. Разумеется, это тоже область серьезных вопросов, но это опять же отдельная тема.
Итак, мы видим, что спасительное действие Христа, в том числе, и значение Его Крестной смерти, мыслилось восточными отцами многогранно, не только как выкуп, замещающий смерть как плату грех, в духе ветхозаветной идеи. Оно мыслилось и через соединение Бога и человека во Христе, онтологически воздействовавшее на все человечество, и через проникновение Бога в царство смерти, разрушающее последнее. Но этим не дезавуирован и смысл жертвы как выкупа. Иначе пришлось бы спорить с той библейской идеей, что грех требует выкупа вплоть до смерти. А спорить с Библией, с ее буквой людям библейской традиции было в то время еще немыслимо – это и значит, что время было докритическим.
Но мы с вами живем в другое время – время легитимности критического мышления. А главный вопрос критического мышления – «как это можно знать?». И с особенной силой он встает там, где, с одной стороны, звучит ответ «никак», потому что речь идет о том, что за пределами возможного человеческого опыта, а, с другой стороны, претензия знать имеет место. Такова в большой своей части область религиозных вероучений, религиозной метафизики, мифа и догмата. Если в докритическую эпоху это содержание передавалось от отца к сыну по «механизму» традиции, то где-то с концом Средних веков в этом механизме возникли серьезные перебои. В итоге современные люди в целом стали как-то скромнее в претензии знать всю эту «божественную механику». Мы стали то ли приземлёнее, то ли трезвее – кому как больше нравится оценивать. Слишком много всего разного мы узнали, и это осознание разнообразия реальности стимулирует у нас критическое отношение к каждой частной картине мира.
Конечно, это не способно опровергнуть того, что событие Христа, историческая встреча с Ним носит характер опыта за пределами обыденности. Иначе просто неясно, как получилось, что эта встреча была исторически воспринята как богоявление, теофания. Ведь и критическое мышление должно согласиться с тем историческим обстоятельством, что это событие оказалось такой силы, что вызвало к жизни христианство – к слову говоря, принесшее помимо прочего и уникальную на фоне других религий жажду осмысления всего, в том числе и своего исходного События. В конечном итоге, я бы сказал, принесшее и сам этот переход от докритического мышления к критическому.
Но на момент жизни Иисуса Христа, понятное дело, христианство – это, как и другие религиозные традиции, вполне себе традиция мифа. А миф – это язык, выводящий за пределы чувственного опыта, данного или потенциально данного каждому независимо от его традиции. Все мифологии, напротив, частные: мифологические образы у каждой традиции свои, метафизика – своя.
С точки зрения мейнстрима современного мышления все это означает, что мифология и метафизика, понимаемые буквально, не являются знанием, не являются истиной. Здесь невозможны проверка и опровержение, удостоверение, консенсус и даже субъективное свидетельство. Кто видел, как Бог принимал решение об искуплении, как соединялись во Христе природы; кто, в конце концов, видел сами какие-то «природы»? Кто видел, какому существу приносится жертва Христа: Богу, понимаемому по-ансельмовски? дьяволу? Из какого опыта следует, что мироздание с событием Христа как-то объективно изменилось? Реальность продолжает оставаться для нас проблематичной: непонятной, негарантированной, вероятностной. Что значит, что Христос попрал смерть – ведь эмпирически как люди умирали, так и умирают и после Христа? Не будет ли более оправданным мыслить, что Христос не изменил реальность, а скорее с огромной силой, подобно вспышке, освещающей тьму, явил нечто важное в наличной реальности: крайне важное, но невидимое нам в нашей повседневности? И тем самым дал огромный импульс надежде на то, что на самой глубине, невидимой вне события Христа, смерть над нами не властна?..
Но если Иисус – Человек, явивший Свою неподвластность смерти, то не разумно ли мыслить Его как такого человека, который находится в уникальном единстве с реальностью, с самой Основой, то есть с Богом, а, следовательно, с Самим Собой, без той дезинтеграции личности, которая свойственна всем нам и которую мы и называем грехом? И каков в таком случае смысл этой Его смерти? Думается, что понятие жертвы годится для такого осмысления: современный смысл слова «жертва» позволяет описывать с его помощью человеческую ситуацию и взаимоотношения человека с реальностью и с самим собой. Она и понимается теперь не только и не столько специфически религиозно, сколько экзистенциально и онтологически, т. е. в плане внутренней жизни человека и его бытия в целом.
Сегодня, когда мы употребляем слово «жертва», основной его смысл уже не в вопросе «кому?», а скорее в вопросах «зачем?», «ради чего?». Мы говорим: человек пожертвовал временем, карьерой, наконец, самой жизнью. Человек может всем этим пожертвовать. Но если цель прежней, религиозной и ритуальной жертвы была наперед задана, то жертва в нынешнем смысле слова совершается человеком ради той цели, которую он сам для себя определил.
Заметим, что способность человека к жертве мы ценим, пусть и не всегда на поверхности нашего сознания, а в его глубине. Жертва для нас, в общем-то, тождественна свободе. Жертвующий не держится, не цепляется за своё. Он принимает решение отдать то, что приходится отдать, чтобы сохранить или приобрести нечто более важное и значимое для него. Эта наша способность отдать нечто и говорит о том, что мы владеем им, а не оно нами. Невозможно отдать то, что цепко держит нас. И в этом смысле жертва действительно является проявлением свободы.
В крестной смерти Иисуса некоторые богословы XX века и увидели проявление свободы, и свободы уникальной, проистекающей из уникального единства с Богом. «Чтобы совершенно отказаться от себя, Он должен совершенно обладать Собою. Обладать же, а значит, и пожертвовать Собою совершенно может лишь тот, кто нераздельно и неразрывно соединен с основой своего бытия и смысла», писал об Иисусе Пауль Тиллих.
Стоит отметить, что это перекликается по крайней мере с одним местом в Новом Завете. Оно находится во второй главе послания ап. Павла к Филиппийцам, где Павел, по мнению многих исследователей Нового Завета, цитирует или пересказывает христологический гимн современной ему церкви, возможно самый ранний христианский гимн, церковный гимн. Именно здесь в синодальном переводе мы читаем это странное выражение «не почитал хищением быть равным Богу». Слово «хищение» здесь – это греческое ἁρπαγμός, означающее схватывание или схватываемое, а также грабеж, предмет сильного желания, добычу, приз. Таким образом, данный гимн утверждает, что Иисус не держался за свое равенство Богу, за дарованную Ему божественность, “образ Божий”, μορφή του Θεόυ (а именно такую высоту берет этот первый известный христологический текст – сразу, от начала христианства, задолго до Никеи и Халкидона!), как за некую сверхценность, которую во что бы то ни стало нельзя отдавать. Он пожертвовал ею, пойдя на страшные муки и смерть. В целом гимн звучит так, что эта жертва и есть главное дело Иисуса, самое ценное в очах Бога из того, что Иисус совершил. Именно за это Бог и возвышает Иисуса перед всем творением (Флп 2:9-10).
Здесь нет еще ни намека на ритуальный характер жертвы, “того богословия жертвоприношения”, которое мы видели в Послании к евреям. Здесь не видно еще даже никакого богословия искупления, идеи жертвы “за кого-то”. Жертва здесь – персональное решение Иисуса, Его, как бы мы сейчас сказали, экзистенциальный выбор. Об ином здесь ничего нет. Разница с обычном человеком только та, что у Иисуса как носителя божественности, Иисуса этой «высокой христологии», просто “выше ставка”, чем у земного человека: у Него есть то, чего у обычных людей нет: божественность, и за нее-то, вместе с жизнью, Он и не держится – а ведь, казалось бы, что может быть ценнее.
В отличие от прежней мифологической традиции богословие XX века в своей существенной части уже предпочитает – по обозначенной выше причине критического характера мышления – не говорить о предсуществующем, небесном, космическом Иисусе как носителе некой божественной природы. Уникальное единство Иисуса с Богом мыслится не через некий Его метафизический статус, а через саму эту Его исключительную свободу, проявившуюся в Его жертве, в готовности не держаться за все свое как за самодовлеющую ценность. В греческом ἁρπαγμός («гарпагмос», с начальным “густым придыханием”, звуком наподобие фрикативного, “украинского” “г”) слышится перекличка с русскими “грабеж” и «грабастать», с английским “grab”. Видимо, здесь – я сейчас навскидку предполагаю, а филологи пусть поправят или согласятся – один индоевропейский корень с семантикой хватающего движения руки с намерением держать и не отпускать, оставить своим и только своим. Отсутствие этого в Иисусе выходит здесь на первый план. Иисус лишен такого судорожного хватания, цепляния. Он согласен на свою участь, Он полностью предает Себя Богу – в этом и видится абсолютная свобода обладания Собой, которая говорит об уникальном единстве Его личности, об уникальной целостности. Вот в каком смысле это жертва. Иисус свободен от всякого желания сосредоточить внимание на Себе, пишет англиканский епископ и библеист Джон Робинсон, комментируя эти стихи Послания к филиппийцам.
Интересно, что даже Карл Барт, еще один великий богослов XX века, который в принципе был против выведения смысла евангельской Вести из внутреннего человеческого опыта, здесь также фактически обращается к этому опыту, отказываясь мыслить в категориях ритуальной жертвы. Слова о смерти Христа «за нас», т. е. «вместо нас» он понимает не в категориях заместительной жертвы, а в том смысле, что Бог сделал за нас то, на что должны были быть способны мы сами – на эту свободу и самоотдачу, но реально, в нашем падшем состоянии не способны. Этим Он судит нас, нашу несостоятельность – и это суд без осуждения, с тем, чтобы тут же, «в зале суда» оправдать и простить. Но важно, что это обращено к нам самим, призывает нас разглядеть в себе эту сторону нашей внутренней жизни.
Можно, наконец, увидеть важный смысл и самого раскритикованного нами богословия жертвы, приносимой Христом «за нас». Этот смысл проявляется именно после того, как мы его раскритиковали и тем самым открыли возможность понимать его не буквально (Бог требует, чтобы кто-то умер), а символически, в качестве указателя на некое важное свойство события. Таким свойством, с какой бы точки зрения ни смотреть: традиционной или современной (которая также будет традиционна, если сохраняет преемственность смысла в новых условиях) является универсальность, всеобщность. Крестная смерть Христа значима и важна для всех людей. Пусть мы уже не приемлем идею заместительного искупления как концепцию, описывающую истинное положение дел – но с точки зрения иудейского сознания, в котором она родилась, она выражает эту всеобщность, содержит этот смысл через всю эту связку понятий: всеобщности греха, а следовательно – вины, а следовательно – необходимости искупления и жертвы. Слова «за нас» с необходимостью содержат смысл «за всех нас», и такой смысл и может быть для нас их «переводом». «Умер за нас» – это значит умер таким образом, что это касается каждого из нас и может быть принято каждым из нас. Соответственно, и другая рассмотренная нами религиозная идея осмысления Креста, за которым следует Воскресение – схождение Бога в мир мертвых, в царство дьявола и смерти, с разрушением этого царства, «упразднением ада» – это, если и здесь отойти от буквализма, такой же символ универсальности Благой Вести, выражение надежды на победу над смертью как всеобщей участью, на нефатальность бытия, на торжество жизни.
Top bar menu
+7 926 526 37 39info@nasledie-college.ru
Крест как жертва
Вы здесь:
- Главная
- Статьи и проповеди
- Крест как жертва