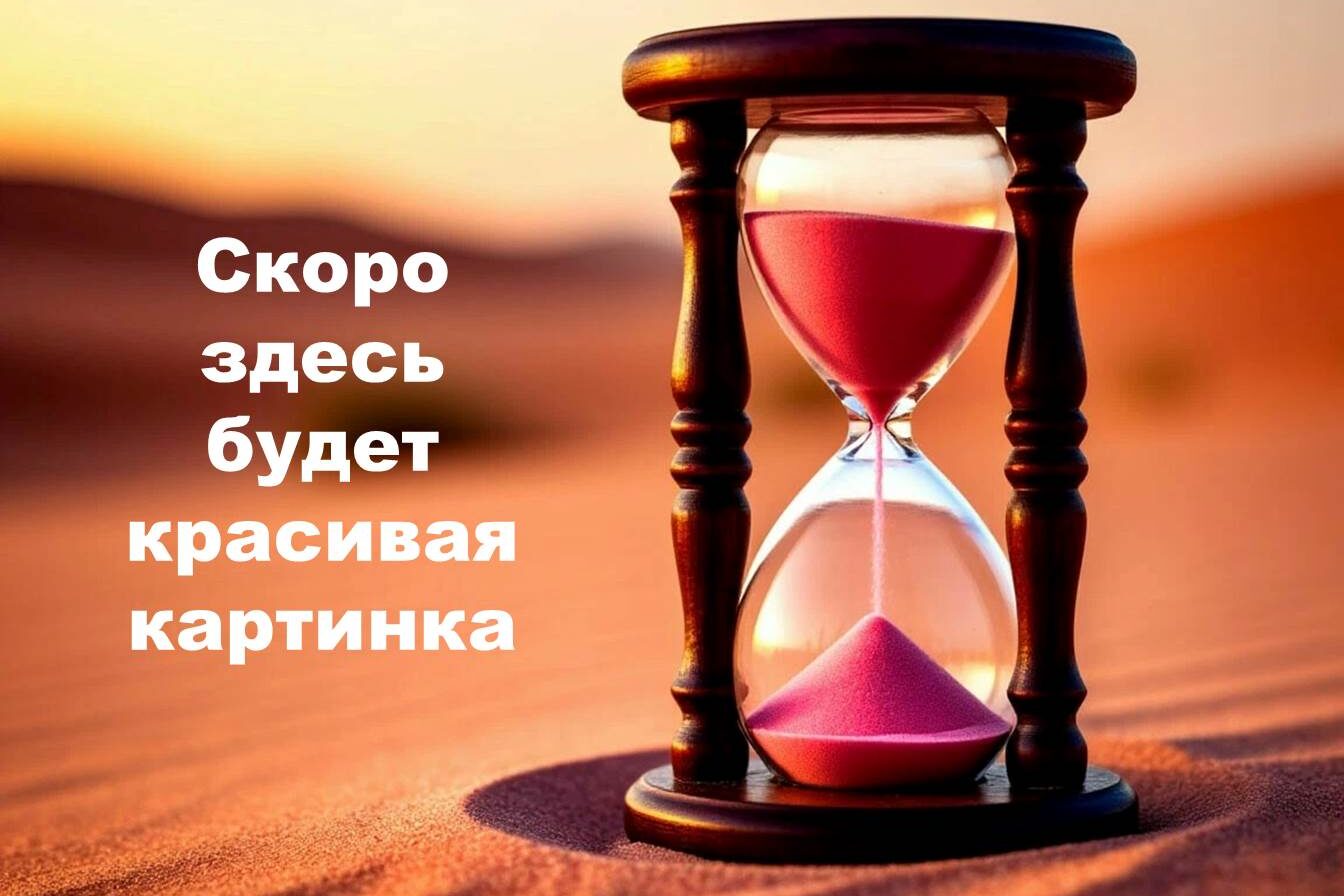Сегодняшний текст о гибели Анании и Сапфиры – довольно короткий, однако он вызывает массу вопросов:
Разве не началось с Новым Заветом время благодати, которое должно отменить бремя Ветхозаветного закона?
Как может любящий Бог подвергать кого-то казни?
Разве не нужно прощать согрешившему брату до семидесяти семи раз?
Почему такое серьезное наказание за такой, казалось бы, несерьезный грех?
Может быть, Лука не точно передал нам содержание эпизода, или сам еще руководствовался представлениями прошлого?
Такие вопросы и даже упреки нередко можно слышать среди читателей книги Деяний.
Что же, будем разбираться.
Но начнем мы наше чтение с описания жизни Церкви, еще не затронутой грехом.
32 У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее.
33 Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их.
34 Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного
35 и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду.
36 Так Иосия, прозванный от Апостолов Варнавою, что значит — сын утешения, левит, родом Кипрянин,
37 у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам Апостолов.
Для многих воцерковленных людей нашего времени Церковь – это то, что нас освящает, делает ближе к Богу: храм, священник, Таинства. Человек готовится, исповедуется, причащается, старается в повседневной жизни вести себя по-христиански. Именно так путь спасения описан в самых известных пособиях по аскетике последнего времени – как путь личного освящения. Однако нельзя не заметить, что этот путь довольно сильно отличается от того, что мы видим на страницах Нового Завета.
Христос с первого дня своего служения трудится над созиданием братства учеников, общины. По-еврейски такие братства назывались хабурот, от слова «хавер» – брат, друг. Вечеря, которую Христос совершает со Своими учениками, становится первой Евхаристией, — это именно братская трапеза.
И для первых христиан Церковь – это община, братство, в буквальном смысле новая семья. Здесь, в совместном чтении Писания, люди учатся слышать волю Божию, здесь в Евхаристии они празднуют самые главные события своей жизни и Божьего спасения, здесь растут их дети, здесь они находят тех, с кем будут делить радости и трудности семейной жизни, или пойдут служить миру, творя дела любви и свидетельствуя о Христе. Показатель зрелости Церкви, наличия Духа среди учеников – это в первую очередь любовь, которая есть между ними; об этом говорит как апостол Павел в самых ранних посланиях, так и евангелист Иоанн в самых последних апостольских текстах – это единое мнение апостольского века.
Доходит до того, что такие люди, как Варнава, продают землю, чтобы разделить средства с неимущими. Напомним, что земля в Ветхом Завете – это благословение Господне, то, что обещано Аврааму и его потомству как знак Божьего участия в Завете. И вот эту-то землю Варнава продает, потому что чувствует: действительно, наступили времена большего Завета, и мы действительно становимся родными друг другу.
Это время величия Церкви (дважды в этом отрывке звучит слово мегале, «великая») – в такой любви возможна и великая сила проповеди, и великая благодать, которая явна окружающим.
И вот в этой обстановки взаимного доверия происходит следующее.
1 Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфирою, продав имение,
2 утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам Апостолов.
Обратим внимание, если при военном коммунизме начала ХХ века отбирали и перераспределяли имущество насильственным образом, здесь все делается на добровольных началах. Ананию и Сапфиру никто не принуждает продавать землю и отдавать средства в общий фонд. Что же ими движет?
Вероятно, они ищут человеческого признания (славы), стать не менее знаменитыми, чем Варнава. Также они не прочь пожить за чужой счет, ведь пользоваться они будут общим имуществом Церкви. У них нет полного доверия к тому, что происходит, поэтому они откладывают некую сумму на «черный день». И для того, чтобы все это осуществить, они решают солгать.
3 Но Петр сказал: Анания! Для чего [ты допустил] сатане вложить в сердце твое [мысль] солгать Духу Святому и утаить из цены земли?
4 Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу.
5 Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех, слышавших это.
6 И встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили.
Грехи, которые творит человек, бывают разной тяжести. Некоторые из них он совершает, плохо подумав, – такие грехи ближе к ошибке. Другие грехи совершаются по слабости, привычке – эти грехи больше похожи на болезнь, паралич воли. Конечно, любые грехи остаются грехами, но эти в каком-то смысле можно извинить.
Однако есть грехи, по поводу которых человеку все ясно, которые человек имеет силы не совершать, и тем не менее он их сознательно творит, и даже заявляет, что поступает мудро и благородно. Вы не встречали людей, знаний которых хватило бы, чтобы читать курс по догматике, однако они очевидным образом грешат, и оправдывая себя, находят в своих поступках нечто возвышенное?
В случае Анании мы видим именно этот грех – сознательно совершаемый, вопреки голосу совести, и не просто совести – вопреки голосу Духа Святого.
Сознательное противление Богу — это так называемый «грех к смерти», при котором даже молитва братьев оказывается бесполезной и бессильной (см. 1 Ин. 5:16-17).
Связь грехов с болезнями известна давно. Но здесь происходит все максимально быстро – внутренний конфликт разрешается смертью. Не Бог убивает Ананию. Просто жизнь в святости и сознательный грех оказываются несовместимы.
Петр говорит, что грех Анании – это грех против Духа Святого, и с первого взгляда может показаться, что община, Церковь тут как бы ни при чем. Но Дух Святой – это Дух любви. Любовь уходит из сообществ, где нет искренности в общении, где подрывается доверие друг ко другу, где грех покрывается молчанием. Это тот горький корень, который, возникнув, может причинить немалый вред и осквернить многих (ср. Евр. 12:15). Если бы Петр не обличил Ананию, это бы подорвало силы жизни всей Церкви.
Возникает вопрос, только ли воровство может быть таким грехом. Воровство, действительно, особенно подрывает доверие между братьями, и потому в монастырях IV-V вв. все остальные грехи старались уврачевать, а за воровство изгоняли (так что коррупция не такой уж и малый грех).
Но для того, чтобы разрушить доверие, подойдет любой грех.
Не так давно известная католическая община прекратила свое существование, поскольку там решили не предавать огласке сексуальный грех одного из братьев. Правда в итоге всплыла, и репутации этой общины был нанесен непоправимый ущерб.
А каким разрушительным может быть соперничество внутри руководства общины, Церкви! Такое соперничество в истории Вселенской Церкви приводило к расколам, а в жизни конкретных общин, приходов, церковных организаций – отравляло отношения, разрушало инициативы, иногда даже разрывало семьи.
Живя в общине, братстве, или хотя бы стремясь к общинной жизни (например, в приходе, Евангельском кружке), очень важно осознавать, что мои грехи – это не только мои грехи перед Богом; они еще разрушают любовь друг ко другу, и в итоге лишают проповедь великой силы, а общую жизнь – великой благодати.
7 Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся.
8 Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да, за столько.
9 Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня? вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут.
10 Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою и, вынеся, похоронили подле мужа ее.
11 И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это.
В случае Сапфиры видно, что Петр предлагает ей признаться, как все было на самом деле, предлагает покаяние – но она не хочет, а потому и не может получить прощения. И ее постигает общая участь с супругом. И Церковь оказывается объята великим (в третий раз!) трепетом. Все понимают, что Бог – не просто в устах проповедника; Его Присутствие реально, и от Него зависит смерть и жизнь не в метафорическом, а в самом буквальном смысле слова.
И все же после всех разъяснений у нас могут оставаться вопросы, мы можем мучиться сомнениями. Возможно, мы живем представлениями этого мира (когда любовь становится сродни попустительству), и нам стоит переоценить их в свете Откровения. А возможно, нам нужно переадресовать свои сомнения Богу. Он, Кто отдал Сына Своего за нас, успокоит сердце.
Мы же подведем некоторые итоги. Согласны ли вы с тем, что:
а) жизнь Церкви в любви – великая драгоценность, ее нужно беречь и взращивать;
б) грех – это не шутка, у него всегда есть последствия;
в) Бог – любит нас, но в Его Присутствие невозможно войти на своих собственных условиях?
А если все так, то что из этого следует лично для меня и каждого из нас?