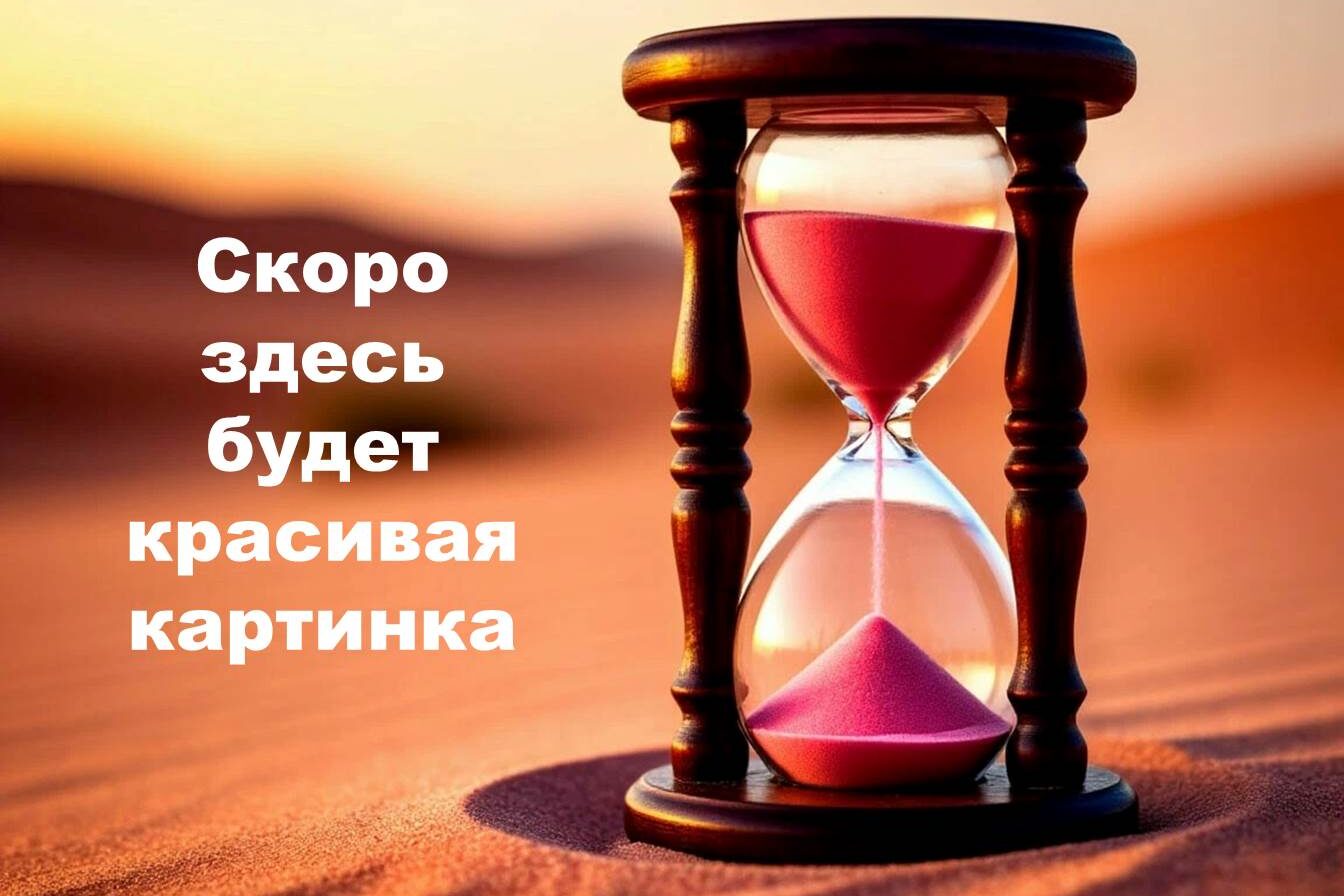Когда вы будете читать сегодняшний текст, я, надеюсь, буду находиться в Липецке, среди молодежи, куда меня позвали для рассказа о чтении Священного Писания в Евангельских кружках. Прошу ваших молитв — чтобы Бог дал мудрости, открыл сердца, и чтобы появились желающие организовать чтения на месте!
И всем нам желаю расти в познании Бога и понимании того, чем живут окружающие нас люди, — чтобы, когда нам, как Павлу, выпадет честь проповедовать, у нас было бы что сказать, и мы бы знали, как это лучше сделать, учитывая жизнь наших слушателей.
После Иерусалимского собора Павел решил заново посетить новообразованные церкви, и хотел трудиться поблизости. Но Бог ведет его дальше (Деян. 16:6-10) – в Грецию, на Европейский континент, чтобы проповедь о Христе распространилась как можно быстрее.
К сожалению, между Павлом и Варнавой произошла размолвка из-за Марка, который их бросил ранее, а теперь хотел вновь присоединиться. Павел не был готов тотчас довериться ему (впрочем, впоследствии они примирились и снова сотрудничали (2 Тим. 4:11)). Вместо Варнавы с Павлом пойдет Силуан (Сила), тот самый, что был послан Иерусалимской Церковью для озвучивания решений собора. Силуан, в отличие от Варнавы, как и Павел, обладал римским гражданством, что давало проповедникам определенный иммунитет в римских колониях. К ним присоединится и Тимофей, который, как и Марк, будет помогать апостолам.
Итак, мы снова погружаемся в атмосферу миссии, обращений ко Христу и гонений на Его учеников.
10 Братия же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они прибыв, пошли в синагогу Иудейскую.
11 Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так.
12 И многие из них уверовали, и из Еллинских почетных женщин и из мужчин немало.
Придя в очередной город Греции, Павел и Силуан предлагают услышать о Христе в синагоге. Но как определить, что их весть – от Бога? Местные верующие обращаются к Писаниям, и несколько дней (а может, и недель) разбирают, истинно ли проповедуемое апостолами.
Действительно, именно соответствие Писанию является главным критерием распознания истины в Церкви: «Даже не верь ты мне, если на слова мои не будешь иметь доказательства из Божественного Писания», — говорит свт. Кирилл Иерусалимский. К сожалению, сегодня об этом мало кто вспоминает, больше обращая внимание на известность того или иного человека, на древность тех или иных мнений.
13 Но когда Фессалоникские Иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ.
14 Тогда братия тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю; а Сила и Тимофей остались там.
15 Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились.
16 В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов.
Павел направляется в Афины, город, издревле славный не только архитектурой, но и образованностью, философией.
В особенности благодаря Сократу (V в. до Р.Хр.) и его ученикам идеалом мыслящего человека здесь стал мудрец, который обладает невозмутимостью, независимостью от течения событий. Он свободен как царь, как бог. Что бы с ним не случилось, его знание, добродетель и счастье от этого не пострадают. Его мудрость – в нем самом, а мир его не волнует. Счастье мудреца состоит в преодолении внешнего мира, а мудрость – в спокойствии, в том, что он научился владеть собой, освободился от аффектов. Люди, живущие такими идеалами, требуют совершенного иного подхода, чем суеверные язычники или укорененные в Писаниях иудеи.
Впрочем, Павел был сыном своего народа, и в первую очередь его возмутили языческие статуи и алтари, которых в Афинах было великое множество.
17 Итак он рассуждал в синагоге с Иудеями и с чтущими [Бога], и ежедневно на площади со встречающимися.
18 Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним; и одни говорили: «что хочет сказать этот суеслов?», а другие: «кажется, он проповедует о чужих божествах», потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение.
Павел идет туда, где есть возможность благовествовать. Для проповеди иудеям он идет в синагогу, эллинам – на агору. Возможно, живи он в наше время, мы увидели бы его на телевидении или в интернет-трансляциях.
Ему попались очень серьезные собеседники. Давайте рассмотрим эти школы внимательнее (и, надеюсь, читатель извинит нас за неизбежные упрощения).
1. Эпикурейцы. Эпикур, основатель школы (3 в. до н.э.), не был развращенным человеком, как иногда его представляют, он предпочитал сиюминутным удовольствиям наслаждение высшим благом: покой и постоянное наслаждение. Добродетель и счастье для него – в отсутствии или разумном ограничении потребностей, для этого разум и нужен. Счастье достигается духовными радостями жизни в образовании и эстетической утонченности жизни, в оживленном и деликатном общении с друзьями, в удобном распорядке повседневной жизни. Эпикур хотел освободить людей от страхов и суеверий, и потому утверждал, что в религии нет нужды, события определяются лишь движением атомов, а после смерти ничего нет. Эпикур допускал, что некоторые планеты и могут быть богами, но, с его точки зрения, на практическую жизнь эти боги не влияли. Радоваться простым вещам, ценить дружбу, чувствовать благодарность жизни – это то, чему могли бы нас научить эпикурейцы. Среди известных последователей Эпикура – римские поэты Лукреций и Гораций.
2. Стоики. Зенон, основатель этой школы, читал лекции в крылатой колоннаде (стоа) в Афинах в IV в. до Р.Хр. Среди стоиков известны философ Сенека, император Марк Аврелий.
Для стоиков добродетель — это жизнь согласно природе и разуму. Когда человек действует против природы, он начинает страдать. Философ борется с собственными влечениями, чтобы сохранять бесстрастие, и жить так – это обязанность, долг. Ну а те, кто так не живут (большинство) – это глупцы, или люди, стремящиеся к лучшему, но до мудрецов им очень далеко.
В отличие от эпикурейцев, у стоиков было свое богословие. Они рассматривали Вселенную единый организм, пронизанный Логосом. Логос – это и зарождающая, творческая сила, и Разум, руководящий принцип Провидения, судьбы. В мире нет случайностей, и, хотя отдельный человек свободен, через него действует Логос, направляя все к всеобщему благу. Стоики верили в посмертное существование душ, которые соединятся с Логосом. Впрочем, это касалось только тех, кто вел себя подобающим образом.
Соответственно, у стоиков было и свое объяснение страданиям (теодицея). Они утверждали, что совершенство целого не обязательно включает совершенства в частностях, и если посмотреть на некоторые страдания отстраненно, можно увидеть, что они нужны для чего-то еще (меня кусает комар, мне больно, но он сможет продолжить жизнь). А болезни могут служить исправительным наказанием Провидения, или же побуждать к проявлению нравственных сил. И ведь только по контрасту со злом мы можем увидеть нечто доброе! В конце концов, Провидение и зло превращает в добро, и пользуется им лишь как средством для достижения своих целей.
Терпеть, обуздывать страсти, стараться смотреть на мир объективно и видеть во всем руку Промысла – вот чему нас могли бы научить стоики.
Именно перед такими серьезными слушателями предстояло выступать Павлу.
19 И, взяв его, привели в ареопаг и говорили: можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою?
20 Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое?
21 Афиняне же все и живущие [у них] иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что — нибудь новое.
22 И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны.
Начиная свою речь, Павел вовсе не обличает своих слушателей за язычество, как можно было бы ожидать по его первой реакции. Как мудрый оратор, он выстраивает мостики к их сердцу, заручается их благосклонностью, хваля их за набожность.
23 Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам.
Существовало предание о том, что в Афинах некогда свирепствовала эпидемия, и было принято решение принести жертвы не только всем известным богам, но и, на всякий случай, неизвестному божеству. Так остроумно Павел разворачивает внимание слушателей к тому, о чем намеревался говорить, раззадорив их любопытство.
24 Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет
25 и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все.
Стоики, разумеется, могли бы отождествить этого Бога с Логосом – источником жизни. Ну а эпикурейцы – порадоваться, что Павел также выступает против суеверий, связанных с языческими жертвоприношениями.
26 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию,
27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас:
Как это часто бывает в Священном Писании, в казалось бы простых словах проповеди мы вдруг видим целую философию истории (Бог заботится о каждом народе, предопределяя им свои сроки и пределы обитанию), и цель существования всего человечества и каждого из нас: мы сотворены с одной-единственной целью — чтобы искать Бога. И Бог близок к нам, — говорит Павел.
28 ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: «мы Его и род».
Единственная цитата, которую использует Павел в качестве доказательства, — комбинация из языческих поэтов Эпименида («Им мы живем…») и Эрата («Мы Его и род»). В оригинале эти фразы относятся к Зевсу, и, либо Павел просто использовал подходящую цитату просто для подтверждения своих слов, не сильно углубляясь в контекст, либо, как утверждают некоторые, Павел признавал возможность того, что Бог дает частичное откровение о Себе даже тем, кто не принадлежит к народу Божию.
Почему же Павел не цитирует Писание? Некоторые современные миссионеры считают, что Библия сама по себе обладает такой силой, что, если ты цитируешь Писание, люди быстрее обратятся. Разве не к этому же призывал святитель Кирилл Иерусалимский, цитату которого мы приводили выше?
Павел не был столь прост. Он всегда учитывал, кто перед ним, какие аргументы и доказательства будут лучше восприняты этой аудиторией: «для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона — как чуждый закона, — не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, — чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» — скажет он в послании к Коринфянам (1 Кор. 9:20-22).
В целом, Лука нам дает довольно широкую палитру того, как проповедовали в апостольском веке: ссылаясь на Писание (в день Пятидесятницы), на личный опыт (у сотника Корнилия), начиная с азов единобожия (в Листре), или обращаясь к цитатам из языческих авторов и приводя философские аргументы (здесь, в Афинах).
29 Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого.
Этот аргумент, разумеется, должны были поддержать все образованные люди, ведь именно за отказ приносить жертвы на подобных алтарях был казнен Сократ.
Мы можем констатировать, что Павел, как мог, постарался расположить к себе слушателей, найти то, что объединяет взгляды, и теперь может перейти к основному благовествованию.
30 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться,
31 ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых.
Наступило новое время, говорит Павел.
Необходимо обратиться к истинному Богу, изменить жизнь, потому что Суд близок.
И этот суд будет совершать Иисус, умерший за нас, и воскресший.
Вполне вероятно, что об этом Павел говорил подробнее (Лука часто дает самое основное из проповедей), но и в этом сжатом виде мы видим самое основное, что должны были услышать эллины.
32 Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время.
Как и в других местах книги Деяний, слушатели разделяются: одни воспринимают все с насмешкой, другие готовы идти дальше.
33 Итак Павел вышел из среды их.
34 Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали; между ними был Дионисий Ареопагит и женщина, именем Дамарь, и другие с ними.
Иногда образованность (или претензия на образованность, потому что настоящая образованность всегда скромна) может стать препятствием для того, чтобы открыть свое сердце благовествованию о Христе. Тем драгоценнее для нас имена тех, кто, слушая Павла, не счел себя выше по статусу (Ареопагит — член городского совета, Ареопага), не погнушался тем, что Павел — еврей, не воспринял со скепсисом идею телесного воскресения, а уверовал во Христа как Господа и Спасителя. И, как всегда, Лука не забывает и женщин, показывая (может быть, впервые языческому миру), что и у женщин есть особое место в замысле Божием.