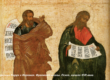Размышления отца Матфея Бедняка. Глава 2.2 из книги «Жизнь в православной молитве». На русском языке публикуется впервые. Все проповеди и статьи отца Матфея, переведенные нашими студентами можно найти здесь
Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой! (Пс. 18:15)
Блажен муж… в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! (Пс. 1:1,2)
Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. (Пс. 118:48)
Воспламенилось сердце мое во мне; в мыслях моих возгорелся огонь… (Пс. 38:4)
Доколе не приду, занимайся чтением… О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. (1 Тим. 4:13,15)
Молитвенное размышление или медитация (лат. meditatio) — это старинное, традиционное понятие, связанное с глубоким и вдумчивым чтением Писания. Такое чтение оставляет неизгладимый след в памяти человека, его чувствах и речи.
Согласно традиции отцов, медитация — это ключ ко всякой благодати. Она делает прибегающего к ней «библейским» в каждом слове, в каждой мысли и в каждом чувстве. Такой человек обретает множество даров и наполняется духовным опытом. Когда он говорит, слова Писания льются из него сами по себе — просто и незатейливо. Удивительно стройно звучат из его уст духовные размышления — словно потоки света, они погружают разум слушателя в сияние духовного знания, будоражат сердце и зажигают чувства.
Слово «медитация» — на иврите hagîg, а по-гречески μελέτη. Сам глагол μελετάω указывает на изучение и глубокое погружение в смысл прочитанного одновременно с умственным и духовным упражнением в его использовании. Размышление о премудрости (μελετᾶν σοφίαν), в таком случае, означает её прилежное и всеобъемлющее изучение с применением на практике.
В святоотеческой традиции «медитация» означает лишь способ, посредством которого человек свои разум и сердце старательно предает слову Божьем. Тогда через Его слово разум и сердце человека обновляются. Отцы говорили, что человеку не следует погружаться в медитацию о чем-либо кроме написанного слова Божьего, то есть Священного Писания. Глубокая медитация может оставить отпечаток в чувствах и разуме человека. На человеке же не должно быть иного отпечатка, кроме святого слова Божьего, которое сообразуется с Божьей волей и замыслом.
По этой причине слово «медитация» оказалось тесно связано с чтением Библии, и его использование ограничилось постижением слова Божьего в глубине сердца. Таким образом словом Божьим напитывается душа и возжигается дух.
Согласно отцам, человек восходит на первую ступень медитации, когда начинает читать слова медленно, пробует их на вкус, произносит снова и снова. Отцы говорили, что читать всегда нужно вслух, и называли это повторением. Слово Божье произносится по многу раз и внутреннее нас услаждает. Таким образом, оно может пребывать в самой глубине человека. Такое повторение подобно тому, как некоторые животные пережевывают жвачку. Через какое-то время прочитанные слова становятся нашими собственными. Человек тогда становится надежным хранилищем слова Божьего. Сердце его становится драгоценной сокровищницей для него, и человек «выносит из сокровищницы своей новое и старое» (Мф. 13:52). Изначально выражения «хранить Евангелие» или «хранить слово» обозначали именно это. Евангелие, или слово, тогда надежно хранится в сердце человека, как величайшая драгоценность. Пророк Давид писал: «В сердце моем сокрыл я слово Твое» (Пс. 118:11). И сам человек затворяется в слове Божьем, как в надежном укрытии, недоступном для грабителей.
По этой причине спонтанная молитва у древних отцов была окрашена чисто библейскими цветами. Их сердца были переполнены словом Божьим. Такие спонтанные молитвы, которые «сам человек складывает», согласно Исааку Сирину, есть не что иное, как связное и целостное изложение воспринятого слова Божьего. Они отражают состояние человеческой души, когда та глубоко тронута и впечатлена Его словом и замыслом.
Таким образом, медитация оказывается тесно связана с молитвой в ее самом простом и формальном виде. Когда человек прибегает к ней, он возрастает перед Богом в дерзновении и мирном духе, поскольку такая молитва проистекает из самого сердца Писания. Она способна совершенно радикальным образом преобразить и обновить чувства человека, образ мысли и его внешнее выражение. Поэтому спонтанная молитва в православной традиции не может считаться молитвой до тех пор, пока человек не напитался словом Божьим. Ему необходимо прилежно учиться правильной медитации. В противном случае его слова будут совсем не библейскими по духу, а выражаемые идеи далекими от Божьей воли и замысла.
Конечно, медитация не ограничивается одним лишь проникновенным чтением вслух. Она включает в себя также и многократное чтение слова в тишине, про себя. Так продолжается до тех пор, пока сердце не запылает божественным огнем. Наиболее ярко это описано у царя и пророка Давида: «Воспламенилось сердце мое во мне; в мыслях моих возгорелся огонь» (Пс. 38:4). Именно здесь можно разглядеть тонкую мистическую нить, которая связывает практику и прилежание с благодатью и божественным огнем.
Простая медитация о слове Божьем в тишине и неспешности в течение некоторого времени обязательно приведет к тому, что сердце человека воспламенится. Поэтому медитация является тем первым формальным звеном, которое соединяет искренние усилия в молитве и поклонении Богу с открывающимися дарами Божьими и Его превосходящей мир благодатью. По этой причине медитация считается первой ступенью сердечной молитвы, с помощью которой человек может достичь состояния духовной теплоты. В этом состоянии он может прожить всю свою жизнь.
Надо отметить, что изначально еврейское слово haga — медитация — означает «произносить по буквам» или в самом простом смысле «проговаривать». Это слово подразумевает искреннее усилие со стороны человека узнать и понять Божью волю и тайны, скрытые в Его слове и заповедях. И вот, мы слышим, как пророк Давид говорит в своем первом псалме: «Блажен муж… в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!» (Пс. 1:1,2). Несомненно, такой человек станет тем, кто сообразуется Божьей воле, как и сам Давид.
В результате такой медитации — или haga — о законе Божьем, как говорит Давид, человек «во всем, что он ни делает, успеет» (Пс. 1:3). Мы видим, что медитация может служить хорошей ступенью для тех, кто достиг духовного совершенства. Но haga, как мы отметили ранее, также обозначает и «произносить по буквам», «проговаривать» закон. Поэтому медитация равным образом подходит и для тех, кто только вступает в отношения верности и дружбы с Богом.
Это означает, что медитация сама по себе может фактически быть как началом пути, так и его завершением. Воистину Слово Божие есть начало и конец. Через Слово Божье человек приступает к истине, и со Словом Божьим он её достигает.
По этой причине у древних Отцов медитация почиталась полезным занятием. Они ею жили и до последнего вздоха к ней прибегали. Например, мы читаем у Палладия [1], написавшего «Рай отцов», что святой Марк Подвижник, которому на тот момент было уже сто лет, знал наизусть все четыре Евангелия! Он также пишет, что святой Аарон помнил все 150 псалмов, а вместе с ними Послание апостола Павла к Евреям, всю книгу пророка Исаии, часть книги пророка Иеремии, Евангелие от Луки и книгу Притч! Во время своих путешествий Руфин [2] видел то же самое и свидетельствует об этом.
Но это не значит, что медитация для отцов означала просто заучивание текстов. Это лишь неизбежное следствие, поскольку они ежедневно услаждали себя чтением Писания. Каждый день они снова и снова обращались к Библии, и это оставляло неизгладимый след в их памяти. Поэтому слова Писания с легкостью истекали из их уст.
✤ ✤ ✤
Постоянное внутреннее пребывание в размышлении о Слове Божьем по факту является выражением той жизни, которая подлинно протекает в сердце человека. Потому что Слово Божие есть дух и жизнь, как определил ее для нас Господь. Потому такое постоянство неизбежно открывает мистическую устремленность и, следовательно, истинную жизнь, текущую внутри человеческого сердца. С другой стороны, сердце, которому противно размышление о Слове Божьем, обнаруживает глухоту и духовное ожесточение. Мы слышим, как пророк Давид показывает различие между сердцем, которое размышляет о Законе Божьем, и сердцем, которое воздерживается от медитации: «Ожирело сердце их, как тук; я же законом Твоим утешаюсь» (Пс. 118:70). Это означает, что размышление о законе Господа поддерживает в сердце тепло и огонь Божьего Слова, потому что медитация по сути подразумевает постоянное погружение в дух Священного Писания. К тому же это постоянное открытие одной истины за другой, каждая из которых сокрыта в заповедях. Это приводит к постоянному обновлению человеческого ума. Его чувства становятся как бы библейскими и утонченными, а поведение — простым, гибким и легко подстраивающимся к любым обстоятельствам.
По этой причине мы видим, что на высших ступенях медитация постепенно отделяется от чтения. В конце концов медитация приступает к постижению божественных истин, а также к одновременному воплощению Божьих заповедей и Его наставлений в аскетической жизни. Медитация возводит нас на первую ступень созерцания. От глубокого погружения в Слово Божье она переходит к постижению истины, которую Слово содержит.
Постоянное размышление о живом Слове Божьем неизбежно наполняет сердце и разум священными мыслями и образами. Впоследствии они становятся тем материалом, из которого созерцание устраивает свои воздушные крылья. На этих крыльях оно взмывает к духовным небесам, уже не прибегая к чтению. Однако размышление о Слове Божьем, о заповедях и обетованиях Господа должно быть непрестанным. В противном случае вряд ли священные мысли и образы будут наполнять и переполнять сердце и разум человека.
Необходимо также помнить, что мы, постоянно размышляя над Писанием, соберем безмерный урожай святых мыслей и образов. Это уже само по себе блаженство, которое обогащает человека духовными сокровищами. Для него это ещё и пламенеющий меч огненный, который отсекает все источники злых помышлений и образов. Также это считывается для него и духовным приношением, всегда приятным и угодным Господу. «Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой!» (Пс. 18:15).
Как-то раз один монах пришёл к своему наставнику утром, очень опечаленный, после долгой ночи, которую он провёл в медитации, пересчитывая добродетели одного из братьев. Он сказал наставнику: «Авва, я потратил эту ночь впустую. Я так и эдак пересчитывал добродетели брата, и нашёл, что у него их тридцать. И я опечалился, поскольку не имею даже одной его добродетели». Но наставник сказал: «Твоя печаль из-за отсутствия добродетелей и твое размышление о добродетелях брата гораздо лучше тридцати добродетелей».
Это практический пример того, как заповеди Господа действуют на сердце и разум человека. Они вдохновляют и побуждают его искать духовных добродетелей, и указывают ему, где их можно найти, а где — нет. Эта история показывает, как размышление о законе Господнем порождает размышление о добродетелях и внимательное отношение к ним. Медитация вдохновляет человека искать их, распаляет и усердно стучит в дверь его души, чтобы та могла исследовать себя и соизмерять себя с Евангелием. Нигде душа его не найдет покоя, кроме истины, о которой она размышляет. Ни в чем она не найдет радости и счастья, кроме жизни по заповедям Господа. Медитация — это учитель истины, который берет человека за руку, чтобы тот поднялся над самим собой. Это светильник, который просвещает взгляд человека и направляет стопы его к вечности.
Но самая высшая ступень медитации — это размышление о промысле Божественного воплощения и обо всем, что с ним связано. Размышление об искуплении, совершенном на кресте, и о воскресении, даровавшем нам жизнь, называется размышлением о тайне Божьего промысла. В Священном Писании всё это ясно и просто описано.
Когда человек размышляет об этих тайнах достаточно долго, их сокровенные смыслы открываются в его сердце. Пламенная сила изливается из них, чтобы подарить человеку новую жизнь: «чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его» (Флп. 3:10); «верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею» (Еф. 3:17-19). Здесь медитация использует те же слова и выражения и ограничивается их прямым значением в Библии. Это отличает медитацию от созерцания. Созерцание становится свободным и больше не ограниченно написанным словом. Оно зависит от полноты личного восприятия и широты горизонтов знания и понимания.
По этой причине размышление о тайнах Божьего промысла, как он изложен в Священном Писании, является необходимой основой правильного созерцания. Так сила и свет этих тайн являют себя. Плодотворная непрестанная медитация делает и созерцание более плодотворным и совершенным.
Таким образом, медитация — это необходимая и важная по своей сути духовная деятельность и обязательная часть служения Богу. Она необходима всем без исключения, потому что человек просто не может насыщаться словом Евангелия, не повторяя его в своем сердце и разуме. В этом смысл медитации. Кроме того человеку сложно начать по-настоящему горячо молиться Богу, не повторяя перед Ним слов Его обетований. Человек должен прилепляться к ним и в их свете видеть свое истинное состояние. В этом тоже смысл медитации.
Итак, медитация — это молитва, основанная на повторении слов Господа и Его обетований в сердце и в разуме, так что они становятся неотделимой частью веры и надежды человека. Они становятся подлинной силой, на которую можно уповать в час нужды. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою» (Пс. 118:11).
Медитация как внутренний молитвенный огонь
Когда человек пламенеет и горит духом, медитативная молитва становится для него очень простой и естественной. Она не требует особенной сосредоточенности, умственных усилий или иных стимуляций, выходящих за пределы возможностей человека. В этом случае её можно назвать просто молитвой. Это сокровенная, пламенная беседа, в которой душа говорит с Богом, своим Создателем, выражая свои чувства. Чувства могут быть самыми разными: прославление Его деяний, качеств, мудрости, благодарность за Его милость и за Его неземную и жертвенную заботу о нас.
Душа может загореться во время этой тихой медитации — она больше не в состоянии хоть сколько-нибудь хранить тишину. Такое горение прорывается в странных словах, которые выражают любовь, преклонение, покорность, подобно ребенку, который своими слабыми словами выражает сильные чувства. Сердце трепещет под прикосновениями невидимой руки Бога и раскрывается перед Ним.
Медитация как волевой молитвенный акт
Бывает так, что человек хочет приступить к медитации, но не имеет достаточно внутреннего жара, чтобы сразу взойти на уровень сердечной молитвы. Тогда потребуются некоторые психологические усилия и сосредоточенность разума. Они необходимы, чтобы душа могла преодолеть свою глухоту. Разум должен отказаться от всех внешних дел, которые обычно его занимают, чтобы погрузиться в трезвое духовное чтение, позволяющее человеку достичь молитвенного состояния. Тогда в человеке будет действовать внутренняя глубина. Сознание должно бодрствовать, чтобы свободно противостоять всем порывам души и разума, которые приводят верующего к глухоте. Эти порывы лишь отвлекают человека от преклонения, молитвы и общения с Богом.
Действие человеческого сознания зависит от любви, позволяющей преодолевать эти препятствия и поверхностную озабоченность. Когда человек внутренне и добровольно стремится любить Бога — даже несмотря на некоторое самопонуждение в начале — Божественная любовь сразу начинает изливаться. Божье действие всегда поддерживает действие человека, в конце концов становясь единым с ним.
По этой причине воля человека должна бодрствовать и терпеливо ожидать, пока на человека не снизойдёт Божественная сила и не наполнит его духовной теплотой. Именно в этот момент человек внутренне загорается и начинает свою молитву и медитацию легко и радостно.
Это духовное действие происходит во время духовного чтения. Оно перебрасывает человека из состояния душевной глухоты и озабоченности разума зримыми вещами в состояние внутренней глубины, жара и молитвы. Это самое важное и самое тонкое духовное действие во всей молитвенной жизни. Это единственные врата, которые дают доступ ко всем таинствам духовной жизни. Это первая ступень небесной лестницы, которая соединяет душу с ее Создателем.
В этот момент человек может столкнуться с некоторым упрямством определенной части своей души. Душа может отвлекаться различными заботами и переживаниями, которые не имеют никакой реальной ценности и смысла. Человек может столкнуться с уклонением некоторой части своего разума. Разум может прыгать с одной мысли на другую, от одного образа к другому. Таким образом он отвлекается на совершенно пустяковые вещи.
Тогда необходимо, чтобы человек вооружил свою волю искренним внутренним намерением [3]. Это поможет ему устоять и крепко держаться к любви. Он должна устремить свой взгляд к лику Христа в молитве и ожидании. Придет время, и Божественная благодать освободит его и до краёв наполнит любовью.
✤ ✤ ✤
Священное Писание — это богатейший источник, из которого Дух Святой черпает, чтобы снабдить учащегося материалом для медитации. Воистину, Библия — это великая школа, обучению в которой нет конца. Как бы много мы ни постигли, этого всегда будет мало. Эта школа богата тремя учебными курсами. Первый из них — исторический, который охватывает период от начала творения до конца времён. В нем рассматривается познаваемое и непознаваемое творение во всем его многообразии. Второй — закон, включающий все заповеди Божьи, Его постановления и законы, которые Он дал человечеству. И третий курс — это отношения Бога с Его возлюбленными, Его беседы с ними и их беседы с Ним. Этих трех курсов достаточно, чтобы полностью удовлетворить все наши нужды в размышлениях о Боге. Они связаны не с преходящими вещами, но с теми, что всегда существуют здесь и сейчас. Эти вещи рассматриваются не просто как объективные факты, но как отражение нынешнего состояния нашей души.
Пророк Давид собрал для нас восхитительный урожай в своих псалмах. Это лучший пример свободной и всеобъемлющей медитации, которая заключает в себе все три учебных курса. Псалмы — это медитативные художественные произведения. В них мы обнаруживаем глубоко трогательный и непрерывный диалог псалмопевца с Богом.
Говоря о творении, псалмопевец не упускает возможности воспеть всякую тварь. Он говорит с Богом о сотворении небес, земли и того, что ниже земли, гор, холмов, морей, рек, источников, долин, полей, равнин, деревьев, лесов, трав и плодов. Он воспевает солнце, луну, звёзды, планеты, облака, туман, снег, мороз, зной, холод, дождь, бури. Он говорит о животных морских, птицах небесных, зверях земных, зверях лесных, скотах полевых, о пресмыкающихся, которые ползают по лицу земли. Он говорит о народах, племенах, языках… От избытка духа своего он взывает к каждому по имени, чтобы они пели вместе с ним и славили Творца и Всевышнего Бога.
Затем псалмопевец обращается к другим местам в своих псалмах — особенно в незабвенном Псалме 118 — чтобы говорить с Богом о Его законе и заповедях. Он описывает Ему их широту, красоту и сладость. Он свидетельствует перед своим Творцом, что они слаще меда и капель сот для его уст, и что они просвещают очи его. Они радость его сердца и богатство его души. О заповедях размышляет он день и ночь, и потому они становятся светильником ногам его и светом стезе его. Юноше он свидетельствует, что заповеди сохраняют путь в непорочности, а ребёнку он говорит, что заповеди — его разумение. Затем он рассказывает Богу о той печали, которая переполняет его, когда он видит грешников, пренебрегающих законом Божьим, и нечестивых, преступающих его. В этот момент в своем разговоре с Богом он приходит в ярость и обрушивает её на тех, кто уклоняется от законов Господа. Он проклинает их! Затем он приносит благодарение Богу за то, что Тот научил его Своим заповедям лучше, чем научил его врагов. Именно через них ему дано больше разумения, чем старцам.
После того псалмопевец хочет сказать Творцу о себе самом. Он почитает себя червём, а не человеком. Он жалок и презираем более всех людей. Мысленно он возвращается во дни своей юности, вспоминает о грехах, которые по глупости совершил, и умоляет Бога о милосердии. Он смотрит на свои нынешние беззакония, которые «всегда пред ним». Душа его скорбит и молит Бога о прощении. Он описывает, как истаивают очи его, как плоть его иссохла и прилипла к костям его. Он стал как сова, как одинокая птица на кровле опустевшего дома. Он умоляет своего Создателя не осудить его во гневе. Он готов принять наказание, но как от любящего Отца в любви и милосердии. Он просит Господа не отнимать жизни его в расцвете дней, но по долготерпению дать ему время, пока он воздаст Богу подобающие хвалу, славу и благодарение.
После всего этого можно сказать, что Давид в полноте усвоил все уроки Духа Святого и обрел свидетельство от Господа: «Господь найдет Себе мужа по сердцу Своему» (1 Цар. 13:14), и также и свидетельство Христа: «Давид, по вдохновению, называет Его Господом» (Мф. 22:43).
Таким образом, Давид явил нам в Духе живой и вечный образец медитации, как это угодно Господу. Каждый псалом сам по себе является восхитительным примером медитации, которого хватит для полноценного урока. Вместе с остальными псалмами он отчётливо рисует образ внутренней жизни Давида, проведённой в общении с Богом. Секрет возвышения Давида заключался в его точном знании законов Господа и постоянном размышлении над ними.
Следует помнить, что медитация — это искусство, овладение которым требует времени. Но успех приходит легко и быстро, хотя и незримо, как это бывает со всеми духовными добродетелями. Чем больше мы возрастаем, тем больше мы чувствуем свою ограниченность и немощь. Настолько, что, взойдя на вершину, мы оглядываемся по сторонам, и кажется, что мы ничего не добились. Таково действие благодати: она скрывает от нас наши достижения, чтобы не впасть нам в гордыню и тщеславие. Удивительно, но по мере того, как ощущение собственной несостоятельности всё больше овладевает нами, у нас всё больше причин верить в то, что мы проделали хороший путь. Этому нас учат Отцы, вдохновленные Духом Святым. Но всё же перед нами гора, и нам необходимо готовиться, чтобы преодолеть её.
Изречения Отцов о медитации
22 Размышление над Священными Писаниями научает душу общению с Богом. (преп. Исаак Сирин, Четыре книги, 1.3.69)
23 Одно чтение научает, как жить, другое — воспламеняет душу стремлением к добродетели. Усердно размышляй над Священным Писанием и житиями святых, ибо постоянное размышление о них питает усердные мысли, облегчает молитву и делает скорби переносимыми. (преп. Исаак Сирин, Четыре книги, 3.73, 75)
24 Чтение — это возвышенное дело, ибо оно — врата, через которые разум обретает доступ к божественным тайнам. Чтение — это источник сил, из которого разум черпает силы для чистой молитвы и медитации. (преп. Исаак Сирин, Четыре книги, 5.86)
25 Без внимательного чтения Священного Писания разум никогда не сможет приблизиться к Богу. (преп. Исаак Сирин, Четыре книги, 5.87)
26 Врата, через которые человек находит доступ к мудрости, — это размышление над Священным Писанием. (преп. Исаак Сирин, Четыре книги, 4.132)
27 Если ты ищешь истины, знай наверняка, что истинная медитация заключается в чистоте молитвы и сосредоточенности ума. (преп. Исаак Сирин, Четыре книги, 7.3)
28 Когда человек с содействием благодати всё более овладевает медитацией, он понемногу начинает постигать мистические тонкости слова Божьего и псалмов. Он понимает всё, что происходит вокруг него и внутри него. Он видит, как корабль его жизни плывёт вперёд день за днём. (преп. Исаак Сирин, Четыре книги, 7.32–34)
29 Больше упражняйся в молитве, нежели [в пении] псалмов, но не оставляй псалмов под предлогом размышления. Только больше времени уделяй молитве, чем чтению [вслух]… При наблюдении положенных часов уделяй время молитве, и вскоре увидишь, что стал другим человеком! (преп. Исаак Сирин, Четыре книги, 7.40)
30 Ничто так не облекает ум скромностью и целомудрием, как общение с Богом. (преп. Исаак Сирин, Четыре книги, 3.85)
31 Во всех действиях разума, начиная с размышления о божественных вещах и заканчивая созерцанием и экстазом, нет ничего более необходимого, чем понуждение разума в молитве. (преп. Исаак Сирин, Четыре книги, 4.186)
32 Постоянное размышление о Боге научает нас непрестанной молитве. А молитва, в свою очередь, побуждает сердце без устали размышлять о Боге… (преп. Исаак Сирин, Четыре книги, 1.109)
33 Постоянное размышление о Боге, в тишине разума, позволяет человеку овладеть всякой молитвой, обрести истинное знание Бога. (преп. Исаак Сирин, Четыре книги, 1.133)
34 Молитва приближает разум к Богу. В размышлении разум обретает мужество взирать на Него в ожидании очищения и освящения. Это такое размышление, которое со властью подчиняет все прочие мысли. Так разум озаряется сокровенными внутренними тайнами, вдохновляющими его познанием Бога. (преп. Исаак Сирин, Четыре книги, 1.135–138)
35 Общаясь с Богом в молитве, мы возносимся, чтобы узреть Царство Небесное — место поклонения в духе и истине, место, не ограниченное ни физическими пределами, ни какими-либо рамками мира сего. (преп. Исаак Сирин, Четыре книги, 1.140)
36 Усердная молитва и медитация, попаляют страсти и злые помыслы, словно огонь поядающий. Они окрыляют душу и устрояют разум духовный, служение которого Богу не устами, но духом. (преп. Исаак Сирин, Четыре книги, 6.52–53)
37 Не только брань [плоти] обращается в ничто, но и сама плоть, источник этой брани, становится для нас презренной. Таково действие молитвы и добрые плоды божественного размышления. (преп. Исаак Сирин, Четыре книги, 1.130)
38 Советую тебе сесть в уединении… без чтения псалмов и без поклонов. Если можешь, молись одним лишь сердцем, и ты непременно проведешь ночь в сладостном размышлении [упражнение для тех, кто преуспел в бдении]. (преп. Исаак Сирин, Четыре книги, 3.97)
39 Если кто любит Иисуса и отдает [4] себя Ему искренне и внимательно, а не поверхностно, если он пребывает в любви, то Бог уже планирует вознаградить такую душу за эту любовь. (преп. Макарий Великий, Духовные беседы, 12.16)
40 Утишь язык свой, чтобы могло говорить сердце твое [это медитация], и утишь сердце свое, чтобы мог говорить Дух [это созерцание]. (св. Иоанн Дальятский, Слово о дарах Духа, по книге «Старец духовный»)
41 Возьми Его на руки, подобно Марии, Матери Его. Вместе с волхвами войди в пещеру и принеси Ему свои дары. Вместе с пастухами возвести о Его рождении. Воспой Ему хвалу вместе с ангелами. Носи Его на руках, подобно старцу Симеону. Увези Его в Египет, подобно Иосифу. Когда Он играет с детьми, подойди к Нему незаметно и поцелуй Его. Вдохни сладость благоухания Тела Его — Тела, дающего жизнь всякому телу. Наблюдай, как проходят первые годы Его детства на всяком этапе, ибо это наполняет душу твою Его любовью. Прилепись к Нему: смертное твое тело будет благоухать ароматом жизни Его бессмертного тела. Сядь рядом с Ним в храме и слушай слова, исходящие из Его уст, пока слушают изумленные учителя. Когда Он спрашивает и когда отвечает, слушай и удивляйся Его мудрости. Встань там, у Иордана, и вместе с Предтечей приветствуй Его. Изумись смирению Его, когда увидишь, как Он преклоняет голову перед Иоанном, чтобы креститься.
Отправляйся с Ним в пустыню и взойди на гору. Сядь там у Его ног в тишине с дикими зверями, искавшими быть с Господом своим. Встань рядом с Ним, чтобы научиться вести праведную битву против своих врагов.
Вместе с Самарянкой встань у колодца, чтобы научиться поклонению в духе и истине. Отвали камень от гробницы Лазаря, чтобы познать воскресение из мёртвых. Встань со множеством народа, возьми свою часть от пяти хлебов и познай благословения молитвы. Иди, разбуди Его, спящего на возглавии, когда твою лодку заливают волны. Плачь вместе с Марией, омывай ноги Его слезами своими, чтобы услышать Его слова утешения. Преклони голову свою к Его груди вместе с Иоанном, услышь, как бьётся сердце Его от любви к миру. Возьми себе кусочек хлеба, который Он благословил на вечери, чтобы быть единым с телом Его и утвердиться в Нем вовеки.
Встань, не отвращай ног твоих, чтобы Он омыл их от нечистоты греха. Взойди с Ним на гору Елеонскую. Научись у Него преклонять колени и молиться, пока не выступит пот. Встань, выйди навстречу проклинающим и распинающим тебя, предай руки узам, не отвращай лица твоего от побоев и оплевания. Обнажи спину твою для бичевания. Встань, друг мой, не падай на землю, неси крест свой, ибо теперь время отшествия. Простри руки твои вместе с Ним и не отвращай ног твоих от гвоздей. Вкуси с Ним горечь желчи.
Встань рано, пока ещё темно. Прийди к Его гробнице, чтобы узреть славное воскресение. Взойди в горницу и жди Его пришествия, пока двери заперты. Открой уши свои, чтобы услышать слова мира из уст Его. Поспеши в уединённое место. Склони голову, чтобы получить последнее благословение прежде вознесения Его. (св. Иоанн Дальятский, Размышления о домостроительстве Господнем, по книге «Старец духовный»)
Перевод: Сарвадий С.Ю.
Примечания
[1] св. Палладий Еленопольский (360–420 гг. н.э.) — епископ, писатель, ученик св. Иоанна Златоуста. Автор книги «Лавсаик» — сборника рассказов о наиболее известных, современных для него подвижниках, живших в Египте (Нитрия, Келлии, Скит), Сирии, Месопотамии, Галатии, Каппадокии и Риме. Здесь о. Матфей ссылается на «Рай отцов» — сир. редакцию сборника, составленную св. Энанишо (7–8 вв. н.э.), который сам посещал Скитскую пустыню и был хорошо знаком с бытом егип. монахов. Далее упоминаются следующие отцы: св. Марк Подвижник — также Марк Аскет, Марк Пустынник, монах Нитрийской пустыни, автор мистических и аскетических сочинений; св. Аарон Филейский — монах, отшельник, жил в Филах (недалеко от Асуана). — прим. пер.
[2] Руфин Аквилейский (345–410 гг. н.э.) — римский церковный писатель, богослов, переводчик, пресвитер. Перевел на лат. «Церковную историю» еп. Евсевия Кесарийского и заметно дополнил её более поздними событиями, в том числе сведениями о егип. монастырях. В 373–380 гг. во время ссылки посетил удаленные егип. монастыри, где познакомился с знаменитыми подвижниками — преп. Макарием Великим, преп. Макарием Александрийским, преп. Памвой и др. — прим. пер.
[3] Подробнее о воле и намерениях (интенциях) см. в книге «Встреча в тишине» росс. библеиста В.В. Сорокина — прим. пер.
[4] Коррект. по англ. тексту — моя. Более распространенный пер. — внемлет Ему, как должно.